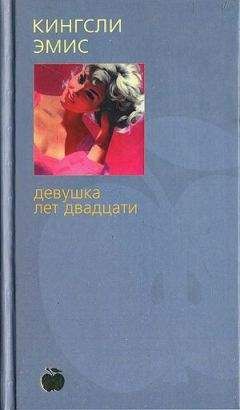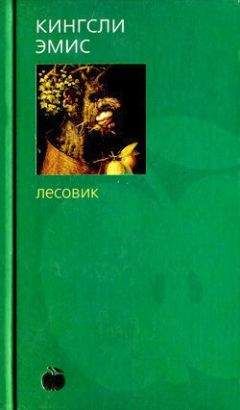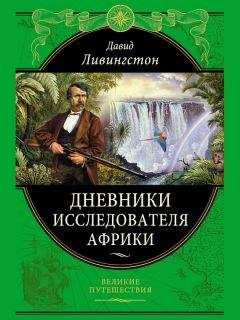– Откуда вы узнали, где я сейчас работаю?
– Ах, это Гилберт! В таких делах он просто чудо!
– Кто такой Гилберт?
– Сами увидите.
Я уж было повернулся уходить, но редактор текущих новостей, толстяк Коутс, спросил, заходясь отчаянным кашлем:
– Что босс?
– Будто ты не знаешь?
– Знаю-знаю! Просто интересно твое мнение. Немного подумав, я сказал:
– Как бы ты назвал мастера от всего отмахиваться и ни в ком не видеть ничего хорошего?
– Я бы сказал: дерьмецо, но я-то мужик простой! Он что, колонку твою снял?
– Пока не снял. Снова в политику ударился.
Коутс сделал затяжку и жестоко закашлялся. Казалось, толстяк не уловил никакой связи между двумя вышеуказанными действиями. Откашлявшись, он сказал:
– Слабо из греческих полковников сваять симфонический оркестр и с этим заявиться? Тут бы ему и крышка! Увидимся на будущей неделе, если я доживу.
Проехавшись по Стрэнду на автобусе номер одиннадцать, я сел в метро на поезд в направлении Норт-Вестерн. Когда поезд грохоча выбрался из тоннеля позади Голдерс-Грин и апрельское, теперь более щедрое солнышко принялось высвечивать наугад убегавшие назад деревья и кусты, а также временные на вид постройки, я погрузился в размышления по поводу увлечений Роя.
Их нынешний цикл начался, должно быть, года через четыре после его женитьбы, которая тоже в свою очередь была результатом застоявшегося увлечения, так как последовала за разводом Роя с его первой женой. Когда мы в последний раз виделись с Китти, она говорила, что дела у них все хуже и хуже, в том смысле, что девицы у Роя с каждым разом все моложе и чудовищней, а Рой с каждым разом увязает все глубже и глубже, и я чувствовал, что так оно и есть. В ту пору Рой как раз только что возвратился домой, весь уикенд – впервые за второе супружество – проведя с некой особой, назвавшейся актрисой и певицей, хотя никто и никогда не видел и не слышал ее ни в одном из названных качеств. Китти утверждала, будто живет в жутком страхе, что Рой буквально в любой момент может уйти, причем насовсем, и что пребывает в полном отчаянии, чему бы я с готовностью поверил, не имей она обыкновения представлять все свои проблемы в виде нагромождения кошмаров и не повергай ее каждый раз в прострацию запаздывание женщины, прибирающей в доме. И все же, мне кажется, я понимал переживания Китти в ее сорок шесть или сорок семь и никак не мог понять, почему Рой, дожив почти до пятидесяти четырех (через неделю он станет старше меня ровно на двадцать лет), с каждым годом впадает во все большую дурь, так что на его примере сложно утверждать, будто с возрастом люди становятся мудрее.
Поезд остановился у дальнего конца платформы, я сошел в числе других немногочисленных пассажиров. Следуя указаниям Китти, позвонил из автомата у входа на станцию и доложился, теперь уже женскому (хотя, может, и не женскому) голосу, что прибыл. Мне было велено направиться вперед по шоссе и идти, пока меня не подхватит автомобиль. На вопрос, как я выгляжу внешне, я вполне честно сообщил, что ростом шесть футов, рыжий и в очках. И пошел, сперва круто вверх, затем вниз по сельскому шоссе, миновал садик с искусственным водоемом, на глади которого колыхалось множество раскрашенных гипсовых уток.
Но вот показался огромный, блиставший хромом автомобиль и, поравнявшись со мной, резко притормозил. За рулем сидел молодой чернокожий в строгом черном костюме, белой рубашке и при галстуке, и в тот же миг меня осенило, что это и есть Гилберт и что это его голос отвечал мне по телефону. Я уселся на сиденье рядом с ним. Не удостоив меня взглядом и не ответив на мое приветствие, чернокожий водитель развернул машину и стремительно газанул с места.
– Какой прекрасный автомобиль! – сказал я. – Ваш?
– Полагаете, тупой черномазый может заработать на эдакий символ благосостояния?
– Раз уж вы сами обмолвились, не скрою, было б удивительно.
– Это автомобиль Роя, если вам угодно.
– У него превосходный вкус!
Мы свернули в сторону, поднялись по пологому холму и влились в магистраль, по одну сторону которой сначала живописно тянулся лес, потом выгон, а по другую изредка мелькали большие виллы.
– Откуда вы? – полюбопытствовал я.
– Из Лондона.
– Ах вот как!
– Вам не все равно?
Посреди выгона возник пруд, на сей раз настоящий, и машина свернула с шоссе к внушительного вида дому с гипсовыми вазонами и огромными кустами рододендронов перед ним. Помнится, Рой говорил, что купил этот дом за одну свою песню: ну да, как же, ораторию – для смешанного хора, большого симфонического оркестра и органа. В этот момент я обнаружил, что автомобиль стоит перед деревянными, выкрашенными голубой краской воротами, а мой попутчик сидит рядом, не двигаясь с места.
– Вы хотите, чтобы я открыл ворота?
– Если, конечно, не боитесь замарать свои нежные пальчики.
– Рискну!
Я открыл ворота и вступил на мощеный двор, обрамленный деревцами весьма заморенного и худосочного вида. Едва я сделал шаг, как по дому разнесся дикий лай, временами перемежающийся каким-то захлебывающимся скрежетом. Я узнал голос Пышки-Кубышки, принадлежавшей Вандервейнам рыжей суки кавалер-спаниеля. Мне всегда казалось несколько странным, что человек с такими политическими взглядами, как Рой, может терпеть рядом с собой, больше того, именно обожать такое реакционное существо в собачьем обличье: деспотичное, чувствительное к иерархии, высокомерное, утверждающее приоритет семьи, заведенный порядок, презирающее перемены, отстаивающее неприкосновенность собственности, а также, как я вскоре обнаружил, непреложность расовых барьеров.
Непосредственный объект последнего из предрассудков стремительно въехал во двор и резко остановился, словно перед невидимой рытвиной на своем пути. Хлопнул дверцей, подошел ко мне и сказал:
– Вы – империалист, расист и фашист!
– Помилуйте, с чего вы взяли?
Последовало упоминание о моей работе в газете, редакцию которой я не так давно покинул.
– Ну и что из этого?
– Это рассадник крайне расистских и колониалистских взглядов!
– Пусть так, но я же не штатный сотрудник, просто регулярно пишу для газеты. А называть колониалистской музыку, это уж что-то…
– Пока вы работаете на эту газету, знайте, иначе, как фашистом и всем отсюда вытекающим, вас никто и не назовет!
– Что ж, придется с этим смириться!
Несмотря на вышепроизнесенное, пока тон Гилберта был на удивление далек от враждебности. В особенности последнее замечание, казалось, содержало чисто назидательный подтекст. Но внезапно в выражении его лица, на мой взгляд в чем-то более европейского, чем африканского, а также в его тоне, в целом дружелюбном, послышался вызов:
– Неужели вас вовсе не уязвляет, что вас назвали фашистом?
– Нисколько! Пусть зовут хоть коммунистом, хоть буржуа, хоть кем угодно. Видите ли, мне на все это совершенно наплевать.
Гилберт уставился на меня, явно обескураженный:
– Так ведь это же главные темы нашего времени!
– Вы хотите сказать, вашего времени! Основные темы моего – мои собственные интересы, преимущественно из сферы музыки. Не пора ли нам войти в дом?
В сопровождении притихшего, с побитым видом Гилберта я прошел через застекленную веранду недавней пристройки со свалкой поношенных старых пальто, старой вешалкой на одной ноге и множеством пустых бутылок из-под вина и виски. Дверь выводила в коридор. Открылись ближняя и дальняя лестницы, а также прибитая к стенке пустая плексигласовая коробка с наклейкой «Фонд в помощь антиапартеиду». Сперва возвещая о себе, а затем сопровождая свое появление истошным лаем и рычанием, из-за угла, цокая коготками, явилась Пышка-Кубышка и завертелась под ногами. Склонившись к ней, я отметил, что с момента нашей последней встречи она еще более разрослась в пышку-кубышку (только с приросточками сосков). Псина то ли признала меня, то ли сочла, что я, по ее представлениям, свой, ибо, оборотившись на Гилберта, слегка рыкнула. Я мог бы заверить его, что, как бы собака свирепо ни лаяла, она в жизни никого не укусит, однако на Гилберта, несомненно, все еще шарахнутого моими откровениями, казалось, ее рык произвел устрашающее воздействие. В этот момент появилась Китти и, поздоровавшись со мной, более или менее незамедлительно собаку прогнала. Мы прошли в гостиную с огромным, во всю стену, окном в глубине и с роскошным старым концертным творением Швандера, «Блютнером», – чуть правее центра. На диване сидели, беседуя, молодой человек с девушкой. Юноша взглянул на меня, дернул головой то ли в приветствии, то ли подавляя отрыжку, отвел взгляд, и лишь тогда я узнал в нем Кристофера, двадцатилетнего сынка Роя. Девушка в платье – я бы даже не сказал «как у», именно «в платье» – гувернантки времен королевы Виктории и головы не подняла.
– Узнаешь, Кристофер, – это Дуглас Йенделл! – сказала Китти. – Дуглас, познакомьтесь – Рут Эриксон.