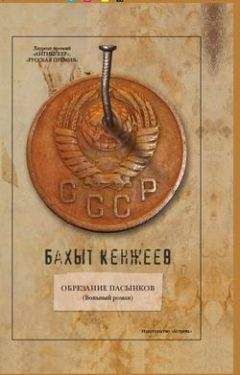хватит ужинов на десять
с фуа-гра и оранжад
чтоб завидовали люди
стихла мать сыра земля
и грустил омар на блюде
хрупким уcом шевеля
современники-потомки!
не пилу не ватерпас —
я таскал в ночной котомке
слов раздвоенных запас
говорила жизнь дурная
что я глуп и сердцем гол
и грустил я заклиная
огнедышащий глагол
в переносном смысле канув
в стикс предав меня едва
горсткой дохлых тараканов
стали важные слова
если время — Бога имя
почему я проглядел
мир маячащий за ними
детской радости предел
Сенчин Роман Валерьевич родился в 1971 году в Кызыле
Сенчин Роман Валерьевич родился в 1971 году в Кызыле. Закончил Литературный институт им. А. М. Горького. Печатался в журналах «Новый мир», «Знамя», «Дружба народов» и др. Лауреат премий «Эврика», «Венец» и др. Живет в Москве.
Собираясь в пятый класс, дочка заявила, что детство кончилось и нужно отдать игрушки другим.
— Настя, — жена чуть не заплакала, — детство не кончилось, что ты говоришь… Но ты права, с большей частью игрушек пора попрощаться.
Еще четыре года назад, перед первым классом, Дробов с женой попытались избавить дочкину комнату хотя бы от части этих рваных зайцев, пыльных мишек, кукол без ног и прочего детского хлама, но тогда Настя отобрала всего три-четыре вещи, а остальное оставила: «Я не могу без них! Мне без них будет страшно!». И вот теперь сама…
Дробов обрадовался, хотя посчитал нужным сказать:
— Ты подумай до завтра, и завтра соберем. Я куплю специальный пакет и унесу маленьким детям.
На другой день, возвращаясь с работы, он купил в магазине подарков большой пестрый плотный пакет. Семьдесят рублей отдал. Но не в черный же мешок загружать — пусть у дочки останется доброе воспоминание.
И вот после ужина втроем сидели на полу перед горкой игрушек.
Одни, Дробов помнил, подарили Насте они с женой, другие — гости или в садике на день рождения, на Новый год, другие праздники; что-то покупали в «Макдоналдсе» и «Ростиксе» — эти детские наборы, но большая часть непонятно откуда взялась. Даже на вид — старые, прошлых десятилетий игрушки. Наверное, так же попали они к Насте, как вскоре многое из этой горки достанется другим, нынешним трехлетним, пятилетним, чтобы еще через пять-семь лет перекочевать к следующим.
— Насть, — жена покрутила какого-то исцарапанного супермена без руки, — его никому не надо отдавать. Он совсем старенький.
— Зато очень сильный, всех побеждает.
Но Настя посмотрела на супермена, и в глазах появилось что-то взрослое, очень взрослое, испугавшее Дробова; такой взгляд у завсегдатаек торговых центров. Дескать, мы знаем на все настоящую цену, чем отличается оригинал от реплики, нас не наколоть.
— Ладно, — сказала Настя твердо, — выбрасывайте.
Дробов отложил супермена-инвалида:
— Я отдам его одному мальчику. Он собирает суперменов, ремонтирует…
И, опережая вопрос жены: «Какому еще мальчику?» — подмигнул ей: «Куда-нибудь дену».
Вроде бы простой процесс — загрузить пакет, освободив ящики пластмассового комода, пространство под кроватью, под письменным столом, а на самом деле — мучение. Тягостно.
Жена не выдержала, поднялась:
— Пойду на кухне приберусь. Посуда еще немытая… Настюш, не засиживайся, уже спать скоро.
Некоторое время дочка молча, как-то механически, брала левой рукой игрушки, мгновение смотрела на них, перекладывала в правую, а потом уж клала в пакет. Дробов даже обрадовался — еще минут десять в таком темпе, и горка исчезнет. Но механичность оказалась обманчивой — Настя уронила руки и посмотрела на Дробова с тоской и болью.
— Пап, а «Побег игрушек» — это совсем-совсем сказка?
— В смысле?
— Ну, что они страдают, мечтают вернуться…
— В общем, да. — И уже твердо Дробов добавил: — Конечно, сказка. — А сам молил кого-то, чтоб Настя не вспомнила тот случай перед первым классом.
Буквально на первое сентября это случилось: она легла спать, на спинке стула висела готовая форма: клетчатый сарафан, белая блузка, колготки, на полу — черные лакированные туфли, на столе — банты, заколки, ранец… Все, готова к школе, новая жизнь.
И часов в одиннадцать — Дробов с женой тоже уже легли — в дочкиной комнате раздался шум. Непонятный, жуткий.
Вбежали, включили светильник. Настя сидела на кровати, глаза огромные, недоуменные. А возле кровати, лежа на боку, перебирал ногами и ржал единорог, под кроватью шипела плита для готовки… Каким образом они включились, тем более одновременно, непонятно.
Дробов, не веривший в чудеса, потом себя убеждал, что Настя нечаянно нажала кнопку у единорога под гривой, а плита давно сошла с ума, иногда ни с того ни с сего начинала шипеть и булькать, но все-таки чувствовал, что это неспроста, не абсолютно случайно...
Нет, Настя не вспомнила или не захотела вспоминать.
— Но к игрушкам в любом случае нужно уважительно относиться, — сказал Дробов. — Отдам их хорошему ребенку, а от него потом они перейдут к следующему… Многие игрушки очень долго живут.
— А как ты узнаешь, что он хороший?
— Ну, посмотрю… поговорю…
«Лишь бы не спросила, где я его встречу». И, чтоб перевести разговор, Дробов поторопил:
— Давай, Насть, заканчивай. Уже действительно поздно.
— О, пап, смотри! — Дочка подняла голую, со спутавшимися волосами куклу барби. — Смотри, какие я ей когда-то ресницы пушистые сделала!
Вокруг глаз ручкой было нанесено много-много черточек. Вверх и вниз, вбок. Синяя паста выцвела (а может, отмыть ее пытались) и стала яркой, почти лазурной. От таких ресниц взгляд у барби был глуповато-удивленный и в то же время какой-то беззащитный и соблазняющий.
— Красишь ты ресницы в ярко-синий цвет, ждешь любви прекрасной, а ее все нет, — вдруг спел Дробов.
Спел и удивился: он не слышал эту песню давным-давно, казалось, наглухо забыл о ней, как о многом забываешь к сорока годам, и вот, в подходящий момент, песня взяла и всплыла, и не только этот припев, а кажется, вся целиком: «Опять суббота, семь часов, и ты одна опять. Подружка с мальчиком своим опять ушла гулять…».
— А кто это поет? — заинтересовалась Настя, принимая куклу обратно. — Про кого?
— Была когда-то такая певица, Барби. — И Дробов усмехнулся тому, что помнит и это. — Пела такую песню.
Дочка тоже усмехнулась:
— Ее прямо так и звали?
— Ну, сценическое имя. А как на самом деле — не знаю. Тогда это скрывалось, кажется, а потом она куда-то исчезла. И песни перестали крутить.
— Я оставлю барби, — сказала дочка. — Платье ей сделаю потом… И вот эти игрушки. — Оказывается, она откладывала за спину, словно прятала, кое-что, видимо, особенно ей дорогое.
— Конечно! Что-то нужно оставить на память.
Закончили. Настя умылась, ушла спать. Дробов поставил пакет в прихожей; супермена сунул в карман куртки. Лег на тахту рядом с женой.
По телевизору показывали «Камеди клаб». Неуемные ребята веселились и веселили зрителей.
Какое-то время Дробов пытался понять смысл шуток и острот, включиться, а в голове толкались, стремились освободиться из-под толщи времени давние воспоминания. Дробов этого не хотел — воспоминания чаще всего доставляли боль, сжигали и без того скудные запасы энергии; и сейчас он всячески пытался остаться вот таким, лежащим, отдыхающим, вяло улыбающимся шуткам в телевизоре. Да, было прошлое, но есть настоящее, будет завтра, послезавтра, и это важнее того, что случилось двадцать лет назад, пятнадцать, десять. И даже вчерашний день уже не так важен — пережили его, и слава богу.
Дробов давил воспоминания, запихивал обратно под толщу и в то же время удивлялся, как легко выскочила на язык давняя песенка, как на секунду стало приятно, и как тревожно, неуютно было сейчас, когда она потянула за собой остальное… И в голове вертелось, как поцарапанный винил: «Красишь ты ресницы в ярко-синий цвет…».