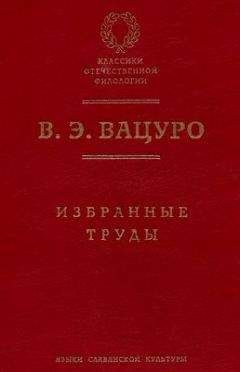В отъезде, в разлуке помнится все хорошее. И видится, словно снится, но это вовсе не сон, а майское утро, солнечное, теплое. Вокруг свежая зелень травы, деревьев, кустов смородины в золотистом цветении. У забора вздымается к небу белое, пахучее облако цветущей акации. Пчелы гудят. Нежно воркуют горлицы, просвистит и смолкнет синица. Это тоже не сказка, но лишь обычное весеннее утро возле старого дома. Которого теперь уже нет. Хотя он на том же месте: Пролетарская улица, номер двадцать пять.
Старый дом наш чуть не сгорел прошлой осенью. Такой красивый получился бы жизни конец на сороковой день после смерти мамы — последней хозяйки дома. На деревянном столике, в красном углу, перед иконами, я зажег свечку и, забыв о ней, уехал, сначала на кладбище, а потом на поминки, спеша.
Вспомнил о свечке лишь к вечеру. Приехал, поглядел: стоит дом. Свеча, догорев, потухла, не тронув деревянной столешницы. Видно, не судьба.
В последние годы, зимней порой, на городской ли квартире или в поселке, мама ждала весны, повторяя:
— Я хочу пожить в нашем домике… Я еще поживу в нем. Там так хорошо: цветы, зелень, воздух…
Он часто ей снился, наш старый дом. Утром встанет, рассказывает: “Видела дом наш. Нюру и Петю, Славочку. Всех видела. Так хорошо поговорили”.
Подступало время летнее. Из города уезжали. Но старый дом тоже старая мать моя навещала лишь изредка. Уже не было сил.
Но разговоры про дом всякий день.
— Вы цветы посадили? Обязательно посадите. А возле кухни астры взойдут и петуньи. Смотрите там не копайте. Я приеду, осторожненько прополю.
— Посадите картошку. Хоть немного. Пару ведерок. Я буду поливать. Своя картошечка такая вкусная.
— А помидоры посадили? Обязательно посадите. В прошлом году Петя с женой посадили. Такие были сладкие. Я их каждый день ела.
— Огурчики обязательно… Свои огурчики…
Разговоров много. Каждый день. И сборы долгие, как на свидание.
— А какое мне платье надеть? А кофточку? А платок? — И — обязательное: — Подуши меня. Вот этими духами, хорошими.
Но потом вдруг передумает:
— Нет. Не поеду. Лучше полежу.
Но все же иногда ездила.
Приедем. Из машины выберется, бредет с батожком.
— Я сама, сама… Я все погляжу. Свою комнату погляжу. Яблоньку… Как там яблочки? Не пропали?..
Идет помаленьку, старый одуванчик… Одни лишь легкие косточки. Два шага шагнет и просит: “Поставь мне кресло”.
Полотняное раскладное кресло ставится в тень ли, на солнечный припек, смотря по погоде.
Посидит, подремлет и заторопится:
— Поехали, поехали, хватит…
Я ворчу:
— Чего тогда приезжали, гоняли машину, собирались полдня?
Мне в ответ обещание:
— Вот когда я поправлюсь, я поживу здесь. А теперь поехали…
Все хорошо: зелень, чистый воздух, легкий ветер, солнечное ласковое тепло, сладкая дрема, но родных людей, с кем жила в этом доме и рядом, — их уже нет. А без них — пустыня.
Мама поняла это не вдруг, прежде порою сердилась:
— Почему ко мне никто не идет? Пойдите позовите…
— Кого позвать?.. — отвечал я со вздохом и добавлял про себя: “Не дозовешься. Они далеко”.
Конец нашего старого дома я осознал прежде матери, когда нас обокрали, два ли, три года назад.
Для давних моих знакомых, земляков, случай этот — словно облегчение.
— Мы тебе говорили…
— Мы тебя сто раз упреждали…
— Мы…
И вправду для них — облегчение. Целых десять лет, после смерти тети Нюры, никто не зимует в нашем старом доме. Лето кончается, заперли и уехали до весны.
— Как вы бросаете, не боитесь?
— Да разве нынче можно?!
— Упрут. Все подчистую.
Год за годом такое слушали. Но приходили холода, дом на замок — и поехали.
Весной возвращались — все, слава богу, на месте.
Знакомые удивлялись, а я — нисколько. Во-первых, в нашем доме поживиться особо нечем. А самое главное, мы — люди свои, меня тем более все знают. У кого рука поднимется?.. С самой войны тут живем. Шестьдесят лет. Времена были — не чета нынешним: голод и холод. Но порошины со двора не пропадало, а уж тем более из дома. Хотя и замков не знали.
Шли годы, времена менялись. Слышал я, что стали обворовывать пустующие зимой дома. Меня не трогали десять лет.
Но нынче, видно, и впрямь другая пора. Приехал я весной на разведку. Гляжу: пробой торчит поперек щеколды. Вынул его вместе с замком и вошел в дом с тяжелой душою. Не то чтобы об украденном великая печаль… Тут и вправду особо воровать нечего. Но — нехорошо.
Вошел, обсмотрелся. Везде, слава богу, прежний порядок: не разбросано, не раскидано. Две новые рыболовные сети — “сороковки”, самые ходовые — висели на стене, теперь их нет. Высокие резиновые сапоги — “забродни”, тоже рыбацкие, исчезли. Забрали электрическую помпу-насос. Она — для полива. Чистое постельное белье украли. Оно стопкой в шкафу лежало. Посуду, ложки-вилки не тронули. Одеяла, подушки — на месте. Нет, это — не алкаши, которые метут все подряд. Это был человек рассудительный, спокойный. Забрал все спиннинговые катушки. Добрался до нижнего ящика платяного шкафа, в котором держал я всякие мелочи: выключатели, розетки, вилки — все выгреб незваный гость подчистую. И закрыл ящик. Аккуратный человек.
Прошелся я по дому, повздыхал, а потом растворил настежь двери и окна, чтобы продуло, выветрило не столько зимний дух, сколько запах чужого человека.
Нынешний наш сосед, очередной квартирант, узнав о краже, сказал:
— А мы видели свет. Еще в прошлом месяце. Я жене сказал: “Рано чего-то приехали…” И горел свет, долго.
Как не увидеть, когда соседские окна в наши глядят. Рукой подать.
Вот тогда я и понял, что старому веку пришел конец и старого дома теперь уже нет, осталась лишь память. Потому что дом — это люди, и не только родные и близкие, но и соседи: Прасковья Ивановна да Петр Семенович, Кузьмич, тетка Фрося, Сурковы, баба Поля Короткова. Они бы сразу пришли, они бы прибежали, завидев свет в наших окнах.
Ночь ли, полночь, но пришли бы проведать, наскучав после долгой разлуки. Нанесли бы харчей: “Вы же с дороги… Голодные…” Увели бы к себе ночевать: “Пока хата прогреется… Зябко…”
Наш старый дом… Тесная хатка под низкою крышею — это лишь малая часть его. Дворик, крохотная летняя кухонька, сараи, огород — тоже малость. Старый наш дом в свою пору был огромным, размахнувшись на добрый десяток подворий от Чеботаревых, где жили тетя Феня, сын ее Флегонт, дочь Рая, до Марочкиных, они же Коротковы: баба Поля, Маруся да Митя. Афонины, а потом — Доценковы, Грибановы: бабка Лена да дочь ее Шура, у той сыновья Володя, Сашка, тетка Фая, мужик у нее был хорошим столяром, шумливая тетка Таня Мирошкина с дочерьми да сыном Шуркой, Кузьмич с теткой Фросею, а еще, конечно, — Сурковы, Ксения Ивановна, Александра Павловна, дед Афоня Коротков с немалой семьей. Считай, целое селенье. И все — свои.
А теперь? Новую жизнь углядишь не сразу. Но порою словно глаза открываются.
— Почему ко мне никто не идет? — недоуменно спрашивала моя старая мать. И не находила ответа.
Однажды, в нынешнюю, уже новую пору, нужно было что-то передать соседке Нине. Всего лишь забор между нашими дворами. Но какой… Его даже не перепрыгнешь, потому что деревянную изгородь крепит еще и высокая металлическая сетка. А с улицы через калитку тоже не войдешь. Там — овчарка с вершковыми зубами. Вот тебе и соседи.
Наш старый дом был иным. К тете Пане Иваньковой, к Петру Семеновичу вела огородная калитка, чтобы не бегать по улице, не давать кругаля, а шагать напрямую ночью ли, днем.
Потому что — соседи. Дальше — Коротковы, Митя, за ним — мать его, баба Поля, с дочерью и зятем. И к одним и к другим — тоже калитки, прямо с огорода.
Мария Яковлевна, насколько помню себя, еще от малых лет, и на работу ходила через наш огород и двор, чтобы зря ноги не бить. Каждое утро если не вижу ее, то слышу:
— Здравствуйте… На работу бегу.
Так и “бегала” всю жизнь.
Будничный утренний обряд всегда одинаковый:
— Вы тут живые? Здорово ночевали!
Это перелазом или дворовой калиткой пришла Прасковья Ивановна ли, баба Поля, тетка Таня Мирошкина.
— Вы тут живые?.. Ну, слава богу. А то я ноне сон видала нехороший…