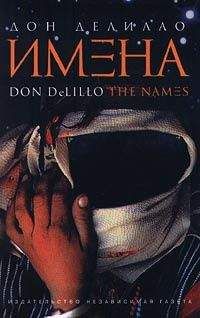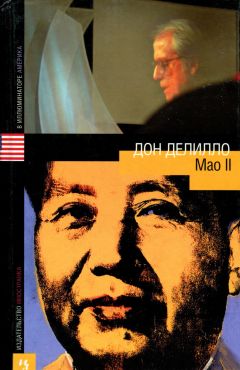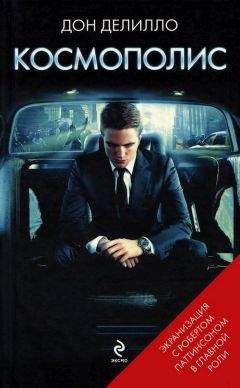— Это как во времена Империи, — говаривал Чарлз Мейтленд. — Уйма возможностей, приключения, закаты, пыльная смерть.
Вдоль какого-нибудь северного побережья на заходе солнца вспыхивает чеканное золото, заливая озера и прочерчивая извилистые реки до самого моря, и мы знаем, что мы снова в пути, почти равнодушные к заповедной красоте внизу, к сланцевой стране-пенеплену, которую оставляем позади, чтобы глубокой ночью миновать дождевые полосы. Это время полностью утрачено для нас. Мы его не помним. Мы не уносим с собой ни чувственных впечатлений, ни голосов, ни стремительного разбега самолета по бетону, ни белого шума моторов, ни часов ожидания. Ничто не пристает к нам, разве что запах дыма в волосах и одежде. Это погибшее время. Его никогда не было, пока оно не наступит опять. А потом его снова не будет.
Я отправился пароходом на Курос — малоизвестный островок из группы Киклад, куда можно добраться только с пересадкой. Там, в маленьком белом домике без горячей воды, на крыше которого росла герань в банках из-под оливкового масла, жили моя жена и сын. Все было чудесно. Кэтрин писала отчеты о раскопках в южном конце острова. Наш девятилетний сын трудился над романом. Нынче все пишут. Хлебом не корми, дай построчить.
Когда я добрался туда, дом стоял пустой. На улицах — ни души. Была жара градусов в сорок, четыре часа пополудни, режуще яркое солнце. Я присел на крыше, приставив руки к глазам козырьком. Поселок был образцом неправильной геометрии — беленные известью хибарки, скучившиеся на склоне, путаница переулков и арок, церквушки с синими слюдяными куполами. Белье, развешанное в закрытых двориках, и всюду стойкое ощущение освоенного пространства, знакомых предметов, домашней жизни, текущей в этой лепной тишине. Лестницы огибают дома, исчезая.
Это была морская обитель, поднятая на безжалостный свет дня, выцветший лоскут на холмах. Несмотря на зигзаги тесных улиц, их неожиданные заломы и повороты, в местечке было что-то безыскусное и доверчивое. Полосатые мачты и вынесенные на воздух коврики, узкие деревянные балкончики, растения в мятых банках, готовность делить причуды некоей коллективной судьбы. Взгляд на секунду притягивали то крытая лазейка между домами, то дверь цвета морской волны, то перильца, надраенные до корабельного блеска. Сердце, едва бьющееся в летнем зное, и все этот подъем, маленькие птички в клетках, проходы, ведущие в никуда. Перед порогами были выложены мозаики из камушков, плиты террасок обведены белым.
Дверь была открыта. Я перешел ждать внутрь. Здесь появилась тростниковая циновка. По письменному столу Тэпа была разбросана линованная бумага. Это был мой второй визит сюда, и я поймал себя на том, что придирчиво, как и в первый раз, изучаю обстановку. Возможно ли отыскать а этой простой мебели, среди поблекших стен что-то, касающееся моей жены и сына, — то, что было скрыто от меня в пору нашей совместной жизни в Калифорнии, Вермонте и Онтарио?
Мы заставляем тебя гадать, не лишний ли ты в этой компании.
Задул мелтеми, изнуряющий летний ветер. Я стоял у окна, дожидаясь их появления. Белая вода сверкала за бухтой. Из потайных местечек в каменных стенах выскальзывали кошки и, потянувшись, брели по своим делам. Первая ударная волна, эхо какого-то далекого насилия, прокатилась по предвечернему острову, и пол слабо задрожал, оконные рамы скрипнули, а в углу, где смыкались стены, с тревожным шепотом просыпалась штукатурная крошка. Наверное, это глушили динамитом рыбу.
Тени от пустых стульев на главной площади. В горах протарахтел мотоцикл. Свет был как в операционной — вяжущий. Он зафиксировал картину передо мной, словно кадр из сновидения. Все выпуклое, безмолвное и яркое.
Они приехали с раскопок на мотороллере. Кэтрин повязала голову пестрым платком, на ней были мешковатые армейские штаны и майка. Высокая мода для сильных духом. Тэп увидел меня в окне, побежал назад сообщить матери, и та, не удержавшись, на мгновение подняла взгляд. Она оставила мотороллер на обочине ступенчатой улочки, и они гуськом двинулись наверх, к дому.
— Я стащил йогурт, — сказал я.
— Так. Смотри, кто приехал.
— Я верну за него, частями. Чем это ты занялся, Тэп? Помогаешь маме пересмотреть всю историю древнего мира?
Я взял его под мышки и поднял на уровень глаз, кряхтя больше, чем того требовало усилие. Возясь со своим мальчуганом, я всегда издавал львиноподобные звуки. Он ответил на это, по обыкновению, уклончивой полуулыбкой, уперся руками мне в плечи и сказал ровным тенорком:
— Мы поспорили, когда ты приедешь. На пять драхм.
— Я пробовал дозвониться в гостиницу, в ресторан. Не вышло.
— Она выиграла, — сказал он.
Я мотнул его и опустил. Кэтрин пошла в дом греть воду, которую они добавляли в холодную, когда мылись.
— Мне понравились те отрывки, что ты посылал. Но разок-другой внимательность тебе изменила. Твой герой вышел во время пурги, надев прорезиненный «ингерсолл».
— А что тут неправильного? Теплей у него ничего не было. Вот что я хотел сказать.
— Наверно, ты имел в виду макинтош. Он вышел во время пурги, надев прорезиненный макинтош.
— Я думал, макинтош — это сапог. Он не мог выйти в одном макинтоше. Тогда уж в макинтошах.
— Тогда уж в «веллингтонах». Сапог — это «веллингтон».
— А что же тогда макинтош?
— Плащ.
— Плащ. Тогда что такое «ингерсолл»?
— Часы.
— Часы. — Видно было, как он складывает эти названия и вещи, которым они соответствуют, в надежный уголок памяти.
— Характеры у тебя хороши. Я узнаю вещи, которых раньше не знал.
— Можно сказать тебе, что говорит Оуэн насчет характера?
— Конечно, можно. Не надо спрашивать разрешения, Тэп.
— Мы не уверены, что он тебе нравится.
— Не умничай.
Он кивнул, точно дряхлый старик на улице, ведущий молчаливый спор с самим собой. В его коллекции жестов и выражений это означало, что он слегка сконфужен.
— Давай, — подбодрил я. — Скажи мне.
— Оуэн говорит, что «характер» происходит от греческого слова. Оно значит «клеймить» или «точить». Или «заостренная палочка», если это существительное.
— Инструмент для резки или клеймения.
— Правильно, — сказал он.
— Вот, наверное, почему по-английски «character» — это не только персонаж в книге, но еще и значок, символ.
— Например, буква алфавита.
— Оуэн напомнил об этом, да? Ну спасибо, Оуэн.
Тэпа рассмешила моя обида — недовольство отца, которого обскакали.
— Знаешь что? — сказал я. — Ты стал немножко похож на грека.
— Неправда.
— Ты еще не куришь?
Он решил, что ему нравится эта идея, и сделал вид, будто курит и разговаривает. Он произнес несколько фраз на языке об, выдуманном наречии, которое перенял у Кэтрин. В детстве она и ее сестры говорили по-обски, а теперь Тэп использовал этот язык как замену греческому или дополнение к нему.
Кэтрин вынесла нам две пригоршни фисташек. Тэп сложил ладони чашечкой, и она медленно высыпала в них одну пригоршню, подняв кулак, чтобы увеличить расстояние. Мы смотрели, как он улыбается орешкам, которые с щелканьем падают ему в руки.
Мы с Тэпом сидели на крыше, скрестив ноги. Узкие улочки сбегали к площади — там, у стен зданий, под турецкими балкончиками, которые на закатном солнце казались забрызганными вином, сидели местные жители.
Мы грызли орешки, складывая скорлупу ко мне в нагрудный карман. За дальней окраиной поселка торчала разрушенная ветряная мельница. Рельеф был скалистый, с крутым спуском к морю. Какая-то женщина со смехом выпрыгнула из ялика и обернулась поглядеть, как он качается. Ялик ходил ходуном, и женщина рассмеялась снова. На веслах сидел мальчишка, грыз хлеб.
Мы смотрели, как разносчик, обсыпанный белым, таскает в пекарню мешки с мукой, взваливая их на голову. Он положил себе на макушку пустой мешок, чтобы защитить глаза и волосы, и выглядел как охотник на белых тигров, облаченный в их шкуры. Ветер все еще дул.
Я посидел внутри с Кэтрин, пока сын мылся. Она пила пиво в сумраке комнаты, по-прежнему в майке, только платок теперь висел у нее на шее.
— Так. Ну что с работой? Где был, куда ездил?
— В Турцию, — сказал я. — Раза три в Пакистан.
— Познакомил бы меня как-нибудь с Раусером. А впрочем, не надо.
— Ты бы его возненавидела, хоть и с пользой для себя. Он бы добавил тебе несколько лет жизни. У него новое приобретение. Портфель. С виду ничего особенного. Но там есть встроенный магнитофон, прибор, который засекает чужие магнитофоны, охранная сигнализация, распылитель слезоточивого газа и скрытый передатчик с устройством слежения — не знаю уж, что это такое.
— Ты его тоже ненавидишь с пользой для себя?
— Я его не ненавижу. С чего мне его ненавидеть? Он дат мне работу. Хорошо оплачиваемую. И я получил возможность видеться с семьей. Как иначе я мог бы видеться со своими родными-эмигрантами, если б не Раусер и не его работа и не эти его оценки риска?