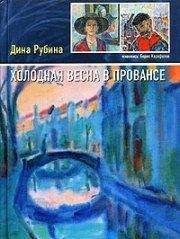Ознакомительная версия.
Хозяин принес тарелку, доверху наполненную кусочками индюшатины с янтарной кромкой жира, и впервые за несколько недель я набросилась на еду, обжигаясь, хватая ртом куски, бурно, рывками, дыша, во рту уже остужая вкуснейшее мясо…
– Что пить будешь? Кофе?
– Чай… зеленый, с наной…
Мне нравилось, как взбегает он по ступеням, в этом тоже было что-то игровое, театральное. И сама я сверху, как из ложи, наблюдала за семенящими мимо окон кафе забавными, стриженными под ежик старухами в свободно болтающихся шароварах ярких расцветок и смешными голенастыми стариками в просторных шортах, с седыми косичками на затылках.
Почему-то все тельавивцы кажутся мне смешными. Слишком они обжили свой город, слишком не замечают его, а заодно уж не замечают и гостей, как жильцы коммуналки не обращают внимания – кто там шастает по коридорам замызганной общей квартиры. Мы-то, в Иерусалиме, ходим по струнке – поди не заметь этот город! – нас-то в строгости держат…
Парень принес на маленьком круглом подносе высокий стакан, в котором таинственно и глубоководно волновалась темно-зеленая веточка мяты – по здешнему «наны», придающей чаю ни с чем не сравнимый, успокоительный вкус. В стакане стояла ложка с высокой, жгутом закрученой ручкой.
Я быстро насытилась, но продолжала есть, растягивая удовольствие, отрывая от питы кусочки, кроша их в тарелку и вываливая в горчичном соусе. И когда они размякали, я нанизывала на вилку кусочки мяса, укутывала их в пропитанные соусом лоскуты лепешки и медленно отправляла в рот.
Мне так не хотелось отсюда уходить…
– Вкусно? – спросил от стойки хозяин.
Я молча закатила глаза к потолку. Он довольно усмехнулся.
… И даже когда поела и отодвинула тарелку, я все еще продолжала сидеть, как сидят в убежище, в уютной пещере на берегу моря, куда загнала тебя морская буря.
– Уже десять убитых, – сказал хозяин, убирая тарелку и выкладывая на стол плоскую кожаную книжку со счетом. – И девятнадцать раненых.
– Маршрут такой… четырнадцатый… – отозвалась я, – ходит редко, народу всегда битком…
Положила деньги на стол, с чаевыми… Выходит, пока я ела шуарму, умерло трое… Три жизни погасли, пока я обстоятельно смаковала золотистые кусочки нежной индюшачьей плоти.
Наконец я поднялась, постояла, невзначай проверяя и с удовольствием обнаруживая, что неплохо стою на ногах…
Тут в забегаловку ввалилось сразу несколько человек, по-свойски приветствуя хозяина, – очевидно, служащие из соседних учреждений явились обедать.
Я попрощалась, и хозяин, несмотря на то что был занят новыми заказами, бросил мне вслед:
– Ты не ошиблась, что заглянула сюда, а?
– Не ошиблась, – сказала я. Надела шляпу и вышла…
У входа в банк «Апоалим» стоял совсем молодой и очень мрачный охранник. Не двигаясь, не разнимая рук за спиной, он внимательно следил, как я к нему приближаюсь.
– Не подскажешь – в какой стороне у вас море? – спросила я.
– Что это значит? – осведомился он. – Море всегда на западе. Где ты училась?
– В консерватории, – сказала я.
– Это не беда, – отозвался он. – Повернешь сейчас за угол и спускайся по этой улице до конца. Упрешься в море.
– Видишь ли, просто я – из Иерусалима.
– И это не беда, – сказал он. И в спину мне: – Ты уже слышала?…
– …Слышала… – ответила я, не оборачиваясь.
И пошла вниз мимо приморских кофеен под грязноватыми тентами, мимо лавок с давно не мытыми витринами, мимо фалафельных, с вынесенными на улицу тремя пластиковыми столами, за которыми на старых табуретах сидели люди в майках и резиновых шлепанцах. Под один из этих тентов я заглянула – купить бутылку минеральной воды.
– … И он сказал, этот миллионер, этот богач: «В тот день, когда моя дочь выйдет замуж, – точно такую свадьбу, в том же зале я играю для бедной сироты!»
Один из сидящих за столом – могучий, эллинского типа мужчина в кудряшках – переговаривался через мою голову с хозяином кофейни. Сквозь натянутый синий тент солнце падало голубовато-синими рефлексами на стол, на лысину хозяина, на плечи и лица сидящих, на мясистое ухо кудрявого, с одинокой длинной серьгой, дрожащей и вспыхивающей дешевым синим огоньком. В контраст к этому весь пейзаж за пределами тента был залит ярким оранжевым светом. И столкновение этих двух цветов давало такую насыщенную гармонию мира, как будто две необходимые друг другу субстанции дополняли друг друга. Как будто мощная радостная стихия разделилась когда-то, чтобы сливаться и сливаться вновь в неутомимом празднике бытия.
– …Ну и?…
– … И в шикарном зале, с оркестром, с морем цветов, с такими винами, что тебе и присниться не могут, были сыграны две свадьбы: для его родной дочери и для бедной сироты…
– Ска-а-зки…
– …Слушай, болван, моя тетя Ципора сшила два одинаковых свадебных платья! Она шила их три недели и три недели плакала от счастья!
– У тебя найдется два тридцать? – спросил меня хозяин. – Чего это она плакала?
– А потому, болван ты бесчувственный, что из-за таких вот праведников, как этот миллионер, наш народ еще жив…
– В Иерусалиме теракт, – сказал хозяин, выкладывая мне медную сдачу на пластиковое блюдце с эмблемой «кока-колы». – Одиннадцать убитых, двадцать раненых… Так, выходит, твоя тетка неплохо заработала на этих платьях?
Все здесь было густо перемешано, как рефлексы синего и оранжевого света. И ничто не могло поколебать этой босой приморской жизни, продутой соленым бризом.
Я обернулась от прилавка и поняла, почему хмурый юноша-охранник сказал: «упрешься в море» – внизу я увидела широкую ровную стену Средиземного моря, на вид металлическую и холодную, с кипящими иглами густых перламутровых бликов.
Я прибавила шагу, как-то странно ощущая робкую еще власть над ногами, которые, как выяснялось, вполне подчинялись моей воле. Спокойно, сказала я себе, спокойно, вот и море… иди, получай свое море…
… И минуты через три, скинув сандалии, уже вступала в блаженство соленой стихии, крепкой мужской ладонью схватившей меня за щиколотки.
Я приподняла подол юбки и, отгребая ногами длинные кудри водорослей, вошла в воду по колени, напрягая икры и ощущая это упругое, почти интимное оглаживание…
Вдруг в воде кто-то клюнул меня в икру. Я вздрогнула, дернула ногой, наклонилась и всмотрелась в воду. Табунок юрких маленьких рыб окружил мои ноги, и то одна, то другая нападали со всех сторон, довольно чувствительно поклевывая икры. Вот! Вот еще! Вот! Ах!Черт!
Я громко засмеялась…
Две немолодые женщины в открытых купальниках, из которых оладьями вываливались пережаренные животы и груди, выразительно переглянулись, приподнявшись на своих лежаках…
Отважные рыбки нападали все настойчивей, я отбрыкивалась, лягала их, они уворачивались, я вскрикивала в голос, хохотала… Наконец в отместку отпустила подол юбки, который заколыхался в воде вокруг моих ног тяжелым занавесом. Влажный соленый воздух, пропитанный морскими брызгами, вливался в меня щедрыми глотками, белый диск внутри палящего шара сползал по небу к необъятному водопою, выкатив от горизонта по водной глади дорожку, вспухающую пузырями света. Три яхты – две с белым, одна с желтым парусом – парили между стихиями невесомо, как стрекозы.
У берега плескалась пожилая женщина в панамке. И вокруг нее кругами стелилась черная собака, такая огромная, что спина ее, а главное, длинный лохматый хвост в воде казались отдельным от небольшой головы телом, принадлежащим какому-нибудь Минотавру из античного мифа. Мощными кругами собака носилась вокруг женщины, выталкивая, выгоняя ее на берег, вероятно, беспокоясь за хозяйку. А та заливалась смехом и кричала: – Тино-о-к, перестань, Тинок! Ну дай же поплавать!
На берегу двое юношей, один постарше, другой совсем юнец, тонкий и ломкий, как резная африканская фигурка из дерева, укладывали снасти на лодке, похожей скорее на плот. Вдвоем они столкнули ее в воду. Один встал на корме с длинным двулопастным веслом, другой – по грудь в воде – сначала вел ее между голов и плеч купальщиков, потом взобрался на нос, уселся там по-турецки, и они заскользили в слепящем свете низкого солнца на парящей узкой ладье – черные силуэты в сверкающем золоте волн. Тот, что стоял на корме, отгребал веслом то справа, то слева от борта, поочередно взмахивая то одной, то другой его красной лопастью, словно ткал невидимую сеть, бесконечную водяную пряжу, оплетающую веретено лодки…
И снова море, и три яхты на слепящем небе вдали, и черная собака со своей надоедливой преданностью, и двое рыбаков на лодке – весь этот радостный мир – подкатили мне к горлу таким тяжелым, как мокрый подол, горьким счастьем, такой подвывающей любовью, что я дважды крикнула в даль сильным, долгим голосом в шуме бухающих в песок волн…
…Наконец вышла на берег, крепко отжала подол юбки и медленно, увязая в песке, испещренном перламутровыми ноготками мелких ракушек, побрела к лежаку. Рядом, на соседних, близко сдвинутых, уже не лежали, а сидели и беседовали две женщины, растирая руки и груди каким-то кремом.
Я распростерлась на лежаке, накрыла лицо шляпой и сквозь ее густую черную вязку стала смотреть в небо, пытаясь представить себе первые минуты, те самые первые минуты, когда осиротевшая душа в смятении оглядывается окрест, еще не зная – куда лететь, еще не веря, что не привязана больше к этой земле, к этому морю, этим старым домам и деревьям…
Ознакомительная версия.