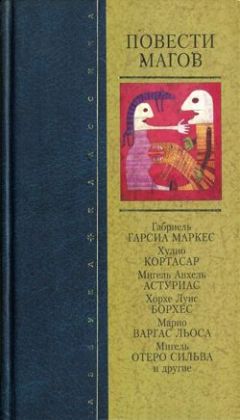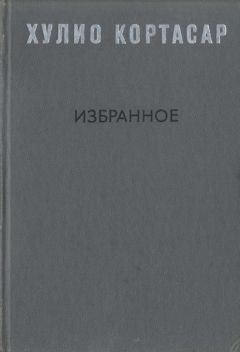– У тебя повышается температура, – говорит Дэдэ из глубины комнаты.
– Да замолчи ты. Верно, верно, Бруно. Я никогда ни о чем не думаю, и вдруг меня осеняет, что я все-таки думал, но ведь это как прошлогодний снег, а? Какого черта вспоминать о прошлогоднем снеге, о том, что кто-то о чем-то думал? Какая теперь важность – сам я думал или кто другой. Да, вроде бы и не я, да. Я просто делаю то, что приходит на ум, но всегда потом, позже – вот это меня и мучит. Ох, трудно мне, так трудно понять… Нет ли там еще глоточка?
Я выжал в стакан последние капли рома – как раз в ту минуту, когда Дэдэ снова зажгла свет; в комнате уже почти ничего не видно. Джонни обливается потом, но продолжает кутаться в плед и иногда вздрагивает так, что трещит кресло.
– Я кое в чем разобрался еще мальчишкой, сразу как научился играть на саксе. Дома у меня всегда творилось черт знает что, только и говорили о долгах да ипотеках. Ты не знаешь, что такое ипотека? Наверное, странная штука, – моя старуха рвала на себе волосы, как только старик заговаривал про ипотеку, и дело кончалось дракой. Было мне лет тринадцать… да ты уже слыхал не раз.
Еще бы: и слышать слышал, и постарался описать детально и правдиво в своей книге о Джонни.
– Поэтому дома время никогда не текло, понимаешь? Одна ссора за другой, даже не пожрешь. А в утешение – молитвы. Ты и не представляешь себе всего этого. Когда учитель раздобыл мне сакс – увидел бы какой, со смеху бы помер, – мне показалось, что тут же все прояснилось. Музыка вырывала меня из времени… Нет, не так говорю. Если хочешь знать, на самом деле я чувствую, что именно музыка окунула меня в поток времени. Но только надо понять, что это время – совсем не то, которое… Ну, в котором мы все плывем, скажем так…
С тех самых пор, как я познакомился с галлюцинациями Джонни и всех, кто вел такую же жизнь, как он, я слушаю терпеливо, но не слишком вникаю в его рассуждения. Меня больше интересует, например, у кого он достает наркотики в Париже. Надо будет порасспросить Дэдэ и, видимо, пресечь ее потворство прихотям Джонни. Иначе он долго не продержится. Наркотики и нищета – не попутчики. Жаль, что вот так пропадает музыка, десятки грампластинок, где Джонни мог бы ее запечатлеть – свой удивительный дар, которым не обладает ни один другой джазист. «Это я играю уже завтра» вдруг раскрыло мне свой глубочайший смысл, потому что Джонни всегда играет «завтра», а все сыгранное им тотчас остается позади, в этом самом «сегодня», из которого он легко вырывается с первыми же звуками музыки.
Как музыкальный критик, я достаточно разбираюсь в джазе, чтобы определить границы собственных возможностей, и отдаю себе отчет в том, что мне недоступны те высокие материи, в которых бедняга Джонни пытается одолеть одному ему видимые преграды, извергая невнятные слова, стоны, рыдания, вопли ярости. Он плюет на то, что я считаю его гением, и отнюдь не кичится тем, что его игра намного превосходит игру его товарищей. Факт прискорбный, но приходится согласиться, что ему предназначено быть истоком своего сакса, а мой незавидный жизненный удел – быть его концом. Он – это рот, а я – ухо, чтобы не сказать: «он – рот, а я…» Всякая критика, увы, – это скучный финал того, что начиналось как ликование, как неуемное желание кусать и скрежетать зубами от наслаждения. И рот снова раскрывается, большой язык Джонни смачно слизывает с губ готовую сорваться каплю слюны. Руки рисуют в воздухе замысловатую фигуру.
– Бруно, если бы ты смог когда-нибудь про это написать… Не для меня – понимаешь? – мне-то наплевать. Но это было бы прекрасно, я чувствую – это было бы прекрасно. Я говорил тебе, что, когда еще мальчишкой начал играть, я понял, что время не мне ответил: все люди чувствуют то же самое и если кто отрывается от времени… Он так и ответил: если кто отрывается от времени. Нет, я не отрываюсь, когда играю. Я только перемещаюсь в нем. Вот как в лифте – ты разговариваешь в лифте с людьми и ничего особенного не замечаешь, а из-под ног уходит первый этаж, десятый, двадцать первый, и весь город остается где-то внизу, и ты кончаешь фразу, которую начал при входе, а между первым словом и последним – пятьдесят два этажа. Я почувствовал, когда научился играть, что вхожу в лифт, но только, так сказать, в лифт времени. Не думай, что я забывал об ипотеках или о молитвах. Но в такие минуты ипотеки и молитвы – все равно как одежда, которую скинул; я знаю, одежда-то в шкафу, но в эту минуту – говори не говори – она для меня не существует. Одежда существует, когда я ее надеваю; ипотеки и молитвы существовали, когда я кончал играть и входила старуха, вся взлохмаченная, и скулила – у нее, мол, голова трещит от этой «черт-ее-дери-музыки».
Дэдэ приносит еще чашечку кофе, но Джонни грустно глядит в свой пустой стакан.
– Время – сложная штука, оно всегда сбивает с толку. Все-таки до меня постепенно доходит, что время – это не мешок, который чем попало набивается. Точней сказать, дело не в разной начинке, дело в количестве, только в количестве, да. Вон видишь мой чемодан, Бруно? В нем – два костюма и две пары ботинок. Теперь представь себе, что ты все это вытряхнул, а потом снова туда засовываешь оба костюма и две пары ботинок и вдруг видишь: там помещается всего один костюм и одна пара ботинок. Нет, лучше не так. Лучше, когда чувствуешь, что можешь втиснуть в чемодан целый магазин, сотни, тысячи костюмов, как я иногда втискиваю всю свою музыку в то маленькое время, когда играю. Музыку и все, о чем думаю, когда еду в метро.
– Когда едешь в метро?
– Да-да, вот именно, – говорит, хитро улыбаясь, Джонни. – Метро – великое изобретение, Бруно. Когда едешь в метро, хорошо знаешь, чем можно набить чемодан. Нет, поэтому-то я не мог потерять сакс в метро, не-е-ет…
Он давится смехом, кашляет, и Дэдэ с беспокойством поднимает на него глаза. Но Джонни отмахивается, хохочет, захлебываясь кашлем, и дергается под пледом, как шимпанзе. По его щекам текут слезы, он слизывает их с губ и смеется, смеется.
– Ладно, хватит об этом, – говорит он, немного успокоившись. – Потерял, и конец. Но метро сослужило мне службу, я раскусил фокус с чемоданом. Видишь ли, это странно очень, но все вокруг – резиновое, я чувствую, я не могу отделаться от этого чувства. Все вокруг – резина, дружище. Вроде бы твердое, а смотришь – резиновое… – Джонни задумывается, собираясь с мыслями. – Только растягивается не сразу, – добавляет он неожиданно.
Я удивленно и одобрительно киваю. Браво, Джонни, а еще говорит, что не способен мыслить. Вот так Джонни! Теперь я действительно заинтересовался тем, что последует дальше, но он, угадав мое любопытство, смотрит на меня и плутовски посмеивается:
– Значит, думаешь, я смогу достать сакс и играть послезавтра, Бруно?
– Да, но надо вести себя разумнее.
– Ясное дело – разумнее.
– Контракт на целый месяц, – поясняет бедняжка Дэдэ. – Две недели в ресторане Реми, два концерта и две грамзаписи. Мы могли бы здорово поправить дела.
– «Контракт на целый месяц», – передразнивает Джонни, торжественно воздевая руки. – В ресторане Реми, два концерта и две грамзаписи. Бе-бата-боп-боп-боп-дррр… А мне хочется пить, только пить, пить, пить. И охота курить, курить и курить. Больше всего охота курить.
Я протягиваю ему пачку «Голуаз», хотя прекрасно знаю, что он думает о наркотике. Наступил вечер, в переулке мельтешат прохожие, слышится арабская речь, пение. Дэдэ ушла, наверное, что-нибудь купить на ужин. Я чувствую руку Джонни на своем колене.
– Она – хорошая девчонка, веришь? Но с меня хватит. Я ее больше не люблю, просто терпеть не могу. Она меня еще волнует иногда, она умеет любить у-ух как… – Он сложил пальцы щепоточкой, по-итальянски. – Но мне надо оторваться от нее, вернуться в Нью-Йорк. Мне обязательно надо вернуться в Нью-Йорк, Бруно.
– А зачем? Там тебе было куда хуже, чем здесь. Я говорю не о работе, а вообще о твоей жизни. Здесь, мне кажется, у тебя больше друзей.
– Да, ты, и маркиза, и ребята из клуба… Ты никогда не пробовал любить маркизу, Бруно?
– Нет.
– О, это, знаешь… Но я ведь рассказывал тебе о метро, а мы почему-то заговорили о другом. Метро – великое изобретение, Бруно. Однажды я почувствовал себя как-то странно в метро, потом все забылось… Но дня через два или три снова повторилось. И наконец я понял. Это легко объяснить, знаешь, легко потому, что в действительности это – не настоящее объяснение. Настоящего объяснения попросту не найти. Надо ехать в метро и ждать, пока случится, хотя мне кажется, что такое случается только со мной. Да, вроде бы так. Значит, ты правда никогда не пробовал любить маркизу? Тебе надо попросить ее встать на золоченый табурет в углу спальни, рядом с очень красивой лампой, и тогда… Ба, эта уже вернулась.
Дэдэ входит со свертком и смотрит на Джонни.
– У тебя повысилась температура. Я звонила доктору, он придет в десять. Говорит, чтобы ты лежал спокойно.