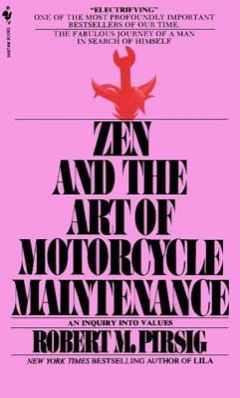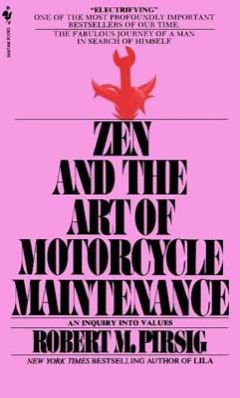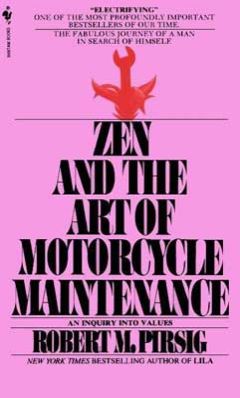— Чё? — снова вопит он.
— Ничего.
— Чего?
— Проверяю, ты еще здесь или уже нет, — ору я, и разговор прекращается.
Если не особенно любишь орать, содержательных разговоров на мчащемся мотоцикле не получится. Вместо этого все время примечаешь окружающее и размышляешь по его поводу. Виды и звуки, настроение погоды и то, что вспомнится, машина и местность вокруг — размышления на долгом досуге, без спешки и без осознания пустой траты времени.
Больше всего сейчас хотелось бы использовать данное мне время на разговоры о том, что приходит в голову. Большую часть его мы проводим в такой спешке, что так и не представляется особенного случая поговорить. В результате — что-то вроде бесконечной повседневной суеты и монотонности, от которой много лет спустя человек вынужден удивляться: куда же ушло все это время, — и жалеть, что все прошло. Теперь, когда у нас действительно есть немного свободного времени, и мы об этом знаем, я бы хотел подробнее поговорить о том, что мне кажется важным.
А приходит в голову нечто вроде Шатокуа[2] (единственное название, которое я могу придумать) — вроде множества бродячих палаточных Шатокуа, которые раньше ездили по всей Америке, по той, в которой мы сейчас: старинная серия популярных бесед, призванных обучать и развлекать, развивать ум и нести культуру, и просвещать уши и мозг слушателей. Шатокуа оттеснили быстродействующие радио, кино и телевидение, и мне кажется, что эта перемена не вполне к лучшему. Возможно, после таких перемен поток национального сознания ускорился и расширился, да только мне думается, что он-таки измельчал. Старые русла не могут больше удержать его, а в поиске новых он только несет больше хаоса и разрушений на свои берега. В этом Шатокуа я хотел бы не прокладывать новые русла сознания, а глубже раскопать старые, забитые грязным илом застоявшихся мыслей и слишком часто повторяемых банальностей. «Что нового?» — интересный и просвещающий вечный вопрос, но если ему следовать исключительно точно, он может привести лишь к нескончаемому параду мелочей и мод, к илу завтрашнего дня. Вместо этого мне бы хотелось интересоваться другим: «Что лучшего?» — вопросом, режущим не широко, а, скорее, глубоко, вопросом, ответы на который помогают спустить ил по течению. В человеческой истории есть эпохи, когда русла мысли прорезались слишком глубоко, и любые перемены оказывались невозможны, ничего нового не происходило, а «лучшее» оставалось вопросом догмы. Сейчас же все не так. Поток нашего общего сознания теперь, кажется, стирает собственные берега, теряя основное направление, топя низины, разъединяя и изолируя возвышенности — и все это без какой-то особенной цели, кроме зряшного претворения собственного внутреннего импульса. Тут, наверное, требуется углубление русла.
Впереди наши спутники, Джон Сазерленд и его жена Сильвия, съехали на стоянку для пикников. Пора размяться. Я подкатываю к ним свою машину, Сильвия снимает шлем и встряхивает волосами, а Джон ставит БМВ на подножку. Никто ничего не говорит. Вместе мы проехали уже столько, что с одного взгляда знаем, как себя чувствует другой. Вот и сейчас мы просто спокойно осматриваемся.
В это время на скамейках еще никого нет. Мы хозяева всей стоянки. Джон шагает по траве к чугунной колонке и начинает качать воду. Крис бредет к маленькому ручейку среди деревьев за бугорком, покрытым травой. Я просто гляжу по сторонам.
Через некоторое время Сильвия садится на деревянную лавку и разминает ноги, поочередно задирая их и опустив голову. Она всегда мрачнеет в долгих паузах, и я ей что-то замечаю по этому поводу. Она поднимает на меня глаза, потом снова опускает их к земле.
— Все дело в людях и в машинах на той дороге, — говорит она. — Первый мужчина был таким грустным. Следующий — точно такой же, за ним еще один, и еще: все они одинаковы.
— Они просто ехали на работу.
Сильвия все отлично понимает, но ничего надуманного в ее словах нет.
— Понимаешь, работа, — повторяю я. — В понедельник утром. Полусонные. Кто в понедельник утром ездит на работу, улыбаясь?
— Дело просто в том, что они на вид все такие потерянные, — говорит она. — Будто умерли. Как похоронная процессия.
Она опускает ноги на землю.
Я понимаю, что она имеет в виду, но логически это ни к чему не приведет. Работаешь, чтобы жить, и как раз этим они занимаются.
— Я смотрел на болота, — говорю я.
Немного погодя она поднимает голову и спрашивает:
— Что видел?
— Целую стаю краснокрылых дроздов. Они все вдруг взлетели, когда мы проезжали.
— А-а.
— Я обрадовался, когда снова их увидел. Они связывают все друг с другом, мысли и прочее. Понимаешь?
Она задумывается, а потом улыбается. За нею — темно-зеленые деревья. Сильвия понимает особый язык, который не имеет ничего общего с тем, что произносишь. Дочка.
— Да, — говорит она. — Они прекрасны.
— Понаблюдай за ними.
— Ладно.
Появляется Джон и проверяет багаж на мотоцикле. Поправляет веревки, потом открывает седельную сумку и начинает в ней копаться. Выкладывает что-то на землю.
— Если вам когда-нибудь понадобится веревка, не стесняйтесь, — говорит он. — Боже, да у меня ее, кажется, в пять раз больше, чем нужно.
— Пока не надо, — отвечаю я.
— Спички? — спрашивает он, продолжая копаться. — Лосьон от загара, расчески, шнурки… шнурки? Зачем нам шнурки от ботинок?
— Давай не будем, — говорит Сильвия. Они каменными взглядами смотрят друг на друга и оба поворачиваются ко мне.
— Шнурки могут сломаться в любой момент, — торжественно произношу я. Они улыбаются, но не друг другу.
Вскоре возвращается Крис, можно ехать дальше. Пока он собирается и влезает в седло, они выезжают, и Сильвия машет нам рукой. Мы снова на шоссе, и я смотрю, как они впереди набирают дистанцию.
Шатокуа, пришедший мне в голову на это путешествие, вдохновила много месяцев назад эта парочка, и, возможно, — хоть я точно и не знаю, — он соотносится с некоторым подводным течением дисгармонии между ними.
Дисгармония наверняка довольно обычна при любом браке, но в их случае она трагичнее. Мне, во всяком случае, так кажется.
Это не столкновение личностей; между ними тут нечто другое, за что ни одного нельзя винить, но решить это никто из них не может. Не уверен и я, есть ли решение для них и у меня — так просто, мысли разные бродят…
Мысли эти начались с, казалось бы, незначительной разницы моего и Джона мнений по совершенно не важному поводу: насколько следует заботиться о своем мотоцикле. Для меня естественно и нормально пользоваться небольшими наборами инструментов, читать инструкции, прилагающиеся к каждой машине, настраивать и регулировать ее самому. Джон возражает. Он предпочитает, чтобы об этом заботился компетентный механик, чтобы все делалось правильно. Обе точки зрения совершенно нормальны, и это незначительное расхождение во взглядах никогда бы не увеличилось, если бы мы не тратили столько времени в совместных путешествиях и не сидели бы в придорожных забегаловках за пивом, болтая о том, что приходит в голову. А в голову лезет обычно то, о чем думаешь последние полчаса с тех пор, как в последний раз поговорили. Когда думаешь о дороге, погоде, людях, старых добрых временах или о том, что пишут в газетах, разговор вполне естественно выстраивается приятным образом. Но каждый раз, когда речь заходит о работе машины, всякая конструктивная беседа прекращается. Разговор тормозится, наступает молчание и пауза в общей непрерывности. Сидят, например, два старых друга, католик и протестант, пьют пиво, и тут вдруг чего-то ради возникает тема контроля рождаемости. Все вымерзают.
Когда такое случается, это напоминает зуб с выпавшей пломбой. Невозможно оставить в покое. Его надо осторожно пробовать, разрабатывать местность вокруг, пихать его языком, думать о нем — и не потому, что это доставляет удовольствие, а потому, что мысль о нем лезет в голову, а вылезать никак не хочет. И чем больше я щупаю и пихаю тему ухода за мотоциклом, тем больше он раздражается, а это, разумеется, вдохновляет меня щупать и пихать еще больше. Не чтобы подразнить его, а потому что это раздражение кажется симптомом чего-то более глубокого, чего-то лежащего под поверхностью. Того, что не очевидно немедленно.
Когда толкуешь о контроле рождаемости, разговор замораживает не сам предмет спора: больше или меньше следует рожать детей. Он лишь на поверхности. Внутри же — конфликт веры: эмпирическое планирование общества против авторитета Бога, как учит католическая церковь. Можешь доказывать практичность рассчитанного отцовства, пока самого себя слушать не устанешь, — это ни к чему не приведет, поскольку твой оппонент не приемлет допущения, что все общественно практичное хорошо само по себе. Хорошесть для него имеет иные источники, которые он ценит так же — если не выше, — как и общественную пользу.