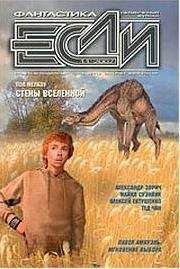— По живому режете, мужики, — сказал он, страдая. — Ели эти сто лет росли, а вы за день их свели. Признайтесь, посадил ли кто-нибудь из вас хоть одно дерево за всю свою жизнь, а? Закон есть такое: свалил одно — посади два. А вы сколько посадили?
Мужики переглянулись с усмешками.
— Яблони, семь штук, — отвечал один. — У себя на даче.
Другой:
— А я возле школы, помню, тополя втыкал в землю. Выросли!
— Не расстраивайся, — сказал третий и оглянулся на лес. — На наш век хватит.
— Да ты сам-то посадил ли? — спросили у пастуха насмешливо.
Вопрос этот оказался некстати, и мужики заметили, что Семён смутился.
— Вот то-то! — они засмеялись. — Укорять да учить, конечно, легче — это нет то, что самому деревья сажать.
Они встали, чтобы продолжать свою работу.
— Ладно, командир, сойдёмся на пузыре одеколону, — продолжал приставать кривошеий. — Ставишь на каждый пенёк по пузырю, и все будет твоё. Если строиться не желаешь, на дрова пойдут! Ну что, по рукам?
Семён, не слушая его, отошёл. Не по себе было и от того, что увидел, и от того, что услышал, а более всего от укора: сам-то посадил ли? И в самом деле, если разобраться-то, сильно ли он отличается от этих мужиков?
Он завернул стадо и погнал его к деревне. Яркий осенний день потускнел.
«Просеку прорубят… будто дырку в стене! — думал он, сердясь. — Сквозняк устроят. И никак их не остановишь! Нет прав у меня, в доме своём есть, на озере или вот здесь, в лесу, я уже не хозяин. Тут каждый делает, что хочет».
Неуютно было на душе Семёна, будто обидели его кровно и незаслуженно или не оправдалась дорогая надежда.
«Скорей бы зима, что ли».
Пригнав стадо в деревню, он, не мешкая, заглянул домой, взял заступ и отправился в лес походкой человека, который одержим стремлением и ни на что не согласен отвлекаться.
Если бы чуть попозднее кто-то пошёл следом, то он мог бы увидеть Семёна Размахаева в Хлыновском логу и, пожалуй, удивился бы: по краю недавно вспаханного поля пастух копал ровненькой чередой ямы, потом приносил из лесу молодые ёлочки и сажал их.
Сначала-то принёс берёзки, но они как-то неубедительно вставали в ряд: стволики тонкие, листва облетела. Совсем иной вид у ёлочек — они гуще, этак потяжелее, присадистее и заметнее. Семён выкапывал их вместе с большим пластом дерновины и земли, боясь повредить корешки, потом, пыхтя от усилий, тащил на поле, заботливо опускал в приготовленную яму, обминал ногами. Надо было видеть в эту минуту его лицо: на нём отражалось глубокое удовлетворение. Но некому было смотреть: вокруг безлюдье. Сиро кругом в эту пору!
К вечеру, когда ёлочки выстроились в несколько рядов, отбирая у вспаханного поля потерянную ранее площадь, Семён и вовсе был доволен. Однако же устал, да и сумерки уже наступали. Он возвратился домой походкой хорошо поработавшего человека.
Но, однако, спал беспокойно: бередило сознание, что и в следующий день бригада будет прорубать широкую просеку; даже снилось, будто она, та просека, уже уперлась в озеро, будто ствол ружья в грудь, и встали по берегам высоковольтные опоры, провисли над водой напряженно гудящие провода. И ещё вспомнилась во сне дорога — она тоже упиралась в озеро, чтоб засыпать его песком да глиной, чтоб опрокинуть и Семёново жилье, и самого Семёна. Но всё-таки жило в душе его утешающее чувство, и он, проснувшись, сознавал: что-то было и хорошее в минувшем дне.
«Ага! Это как я деревья сажал..»
Была ещё одна мыслишка: не засадить ли вот так же ёлочками и прорубленную просеку? Но ее сонный Семён признал глупой, и не без оснований: разве могут маленькие деревья заменить те столетние, шатровые? Да и монтажники придут следом за лесорубами, опоры будет ставить, а у них техника, так что все равно затопчут. Нет, в этом противостоянии ему не победить!
А вот если посадить еще два-три рядка ёлочек дополнительно к уже высаженным, то можно таким образом отвоевать в пользу приозерного луга, а вернее в пользу берёзового леса ту часть поля, которую отхватил Валера Сторожков в прошлом году. Справедливость будет восстановлена, хотя и не полностью, но на уровне прошлого года, а это уже достижение.
Не о стаде думал пастух Семён Размахаев, сажая деревья и страдая душой, — об озере.
2
Озеро было не то, чтобы большое, но и не сказать, чтобы маленькое. В тихую погоду его можно переплыть в самом широком месте запросто, только какая в том нужда? Если уж что понадобится в той стороне, то проще берегом пройти. Конечно, ради интереса или удовольствия можно и переплыть. Ради интереса-то чего не сделаешь!
А вот хоть и невелико озеро, даже лодок на нём не никогда не держали, но поднимется ветер — ого! — волна качает берега.
Так Семён Размахаев говорил: волна, мол, качает берега. Он даже любил повторять это присловье к месту и не к месту, будто оно остроумно Бог весть как. И в самом деле, в нём и напевность, и ещё что-то, какой-то весёлый, чудесный смысл. Разве не так?
Иногда это ему действительно казалось — что берега покачиваются. Стоило заплыть на срединный островок, там молодые дубки растут, родничок бьёт, дивный камень лежит — как раз в форме кресла, то есть почти круглый, будто ком теста приготовлен для стряпни да и оставлен так, окаменел; в нём этакая выемка — удобно в ней сидеть, глядя на деревню и поля за нею; за полями перелески, они смыкаются и по обеим сторонам деревни подступают к озеру; и так они по всему берегу, будто стада на водопой подходят: впереди овечки-кусты, за ними большие рогатые деревья. А между стадами-перелесками свободные лужайки, пригодные и для косьбы, и для пастьбы.
Красивое озеро. Другого такого во всём мире нет! Семён Размахаев по всему миру не езживал, но был убеждён в сущей очевидности: нету! Ну, разве что, может быть, где-то ещё два-три, за какими-нибудь высокими горами, да ведь и те два-три обтоптаны людьми, обижены и унижены. А это — вот оно, нетронутое, целенькое, чистое, будто незамутнённое голубое око Земли, смотрит в небо доверчиво и ясно.
«Газеты читаем, телевизор смотрим, кое-что знаем и кое в чём разбираемся, — размышлял Размахай. — Что там Арал или Каспий — даже Средиземное море запакостили и загубили. Посмотрите-ка на карту, сколько места занимает море Средиземное — это ж умудриться надо из него помойную яму сотворить!.. А вот сотворили. Да что оно, даже Атлантический океан замусорен. Ничему нет спасения».
Семён читал в газетах и страдал, негодуя и страшась: в Рейн вылили какую-то химию; в Персидском заливе брюхо распороли супертанкеру — нефть выливается, у проклятых капиталистов в Америке небо закоптили до черноты — не отмыть! — и в родном Отечестве нашем над промышленными городами не лучше — где бы ни происходила беда, она была так близка, будто за тем перелеском.
По телевизору Семён каждый раз с душевной болью видел: Волгу норовят превратить в сточную канаву; в Австралии горят леса, в Испании и Франции тоже; в Сибири валят кедровники, чтобы утопить их в Енисее или Амуре; в Ладогу и Байкал льют отходы целлюлозно-бумажного комбината; на Амазонке вырубают великую сельву…
И не видя, и не читая, Семён знал: ракеты всех сортов буровят атмосферу, самолёты жрут кислород, ядохимикатами поливают и опыляют поля… трубы заводов стоят, будто деревья в лесу, только в отличие от деревьев дымят, дымят.
Если принять всё это во внимание, то получалось, будто гибельный вал накатывается на всё человечество в целом и на Семёна в его заброшенной деревне в отдельности. Именно гибельный вал, огромный, всё под собой погребающий. Семён смотрел на своё озеро, со всей неопровержимой очевидностью сознавая: вот последнее, что останется пока нетронутым. Если его погубят — всё, ничего не останется на Земле, освященного чистотой и красотой.
Перед тем валом, несущим смерть, лежало, охраняя Семёна, его озеро, царственное не величиной своей, а чистотой и красотой. Слава Богу, пока на него по серьёзному никто не покушался. Хотя, как сказать… есть и здесь губители.
«Ну, это мы ещё посмотрим!» — свирепел Семён Размахаев, будучи твёрдо уверен, что тот, кто покушается на озеро, неминуемо покушается не только на его, Семёнову, жизнь, но и на жизнь вообще — людей, зверей, птиц, трав.
Летом Размахай любил заплывать на срединный островок. Вот как усядется там да раздумается, глядя на водную гладь, тут и почувствует, будто заколыхается она, и от этого колыханья едва-едва, чуть заметно приподнимется берег и домишки на берегу, опустится… и снова.
Деревня видна отсюда — ничто ее не загораживает; почему-то она всякий раз напоминала Семёну старушку в полуотрешенном уже от мирской жизни состоянии: вот-вот помрет, но ещё держится. Дома старенькие, сараи с просевшими крышами, раскоряки-вётлы.
Имя у деревни — Архиполовка. Назвали так потому будто бы, что в какие-то стародавние времена ловили в окрестных лесах беглого мужика Архипа, по прозвищу Размахай, и поймать не могли. Он долго скрывался в этих безлюдных тогда краях, добывая пропитание себе тем, что ловил рыбу, собирал мёд диких пчёл, ставил капканы на кабана, силки на птицу. Потом будто бы девку украл где-то, срубил дом на берегу озера, деляночку леса выжег да и распахал, детишек настругал, вырастил, сыновей переженил, дочери женихов себе приманили. Когда настигли его, Архипа, чтоб обложить налогом, уж целая деревенька стоит, вся сплошь из Размахаевых.