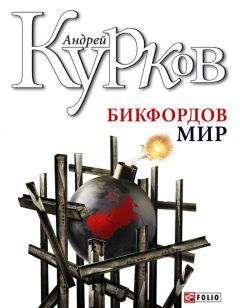Горыч вскочил и сломя голову понесся к машине. Шофер, приподнявшись, смотрел ему вслед, а пассажир берег лицо на светлое будущее. Смельчак запрыгнул на кузов и щелкнул тумблером.
Световой столб стал опускаться и рассеиваться, смешиваясь с темнотой.
Горыч неуклюже перегнулся через борт и прыгнул вниз.
Следующий снаряд поднял в небо несколько кубометров глинистой почвы и разбросал вокруг. Ком глины величиной с хороший херсонский арбуз ударил пассажира по позвоночнику между лопаток. Пассажир икнул и замер. Ему показалось, что мгновенный паралич сковал все его члены, и хоть он полностью ощущал в себе наличие сознательной жизни, пользоваться ею никак не мог.
Пассажир тупо уставился во мрак, именовавшийся землей. Кончиком носа он явственно ощущал ее безразличный холод, но глаза ничего перед собой не видели. Пассажир вдруг захотел сцепить от нахлынувшего отчаяния зубы, но и это ему не удалось. Послушными оставались только глаза, которые он мог свободно открывать или закрывать по своему усмотрению. Ему вдруг стало противно от такой ограниченной свободы: и при закрытых, и при открытых глазах картина увиденного не менялась. Он еще мог думать, но только очень злобно. Но, будучи человеком добрым, так думать ему не хотелось, и он закрыл глаза.
Шофер и Горыч подползли к пассажиру сразу, как только поняли, что обстрел со стороны города прекратился.
Они перевернули пассажира лицом к небу.
– Дышит! – облегченно сказал шофер.
– Контузило, – Горыч зажег спичку и поднес ее к глазам пассажира.
Глаза недовольно сощурились и закрылись.
– Давай его в машину! – скомандовал шофер.
Стараясь двигаться как можно аккуратнее, они отнесли друга к кабине. Открыли дверцу и решили посадить его на мягкое сиденье. Как только попробовали его усадить, пассажир отчаянно выкрикнул свою боль и обмяк. Шофер и Горыч снова опустили его на землю.
– Позвоночник… – вздохнул шофер.
– Надо его в кузов!
С грехом пополам друзья подняли пассажира наверх, сложили в несколько слоев брезентовый чехол и уложили на него раненого. Накрыли его тоже брезентом.
От прожектора шло сильное тепло: металл успел хорошо разогреться, и должно было пройти не меньше часа, прежде чем он остынет.
Горыч с шофером забрались в кабину. Шофера пробрала дрожь. Он нерешительно дотронулся до руля, потом отвел руку и включил кабинный «светлячок». Маленькая лампочка, вспыхнувшая с внутренней стороны лобового стекла, разделила темноту на два цвета: серый и черный. Но даже от такого микроосвещения шофер зажмурился и долго не хотел открывать глаза.
Когда же все-таки открыл – поймал на себе тоскливый взгляд Горыча.
– Надо ехать, – твердо, словно возражая, сказал Горыч.
– Куда? – выдавил из себя шофер.
Горыч указал взглядом на лобовое стекло.
– Вперед и с выключенными фарами, – после короткой паузы объяснил он свой взгляд.
– В полной темноте?! – ошарашенно переспросил шофер.
– А ты хочешь еще раз подразнить городскую артиллерию?
– Ладно, – смирился шофер. – Только давай заранее попрощаемся друг с другом и с ним. Потом можем не успеть. Уж очень мне это напоминает путешествие по минному полю.
– Мне вся моя жизнь напоминает путешествие по минному полю, но я никогда ни с кем заранее не прощаюсь, – грустно улыбнулся Горыч. – Лучше уходить по-английски…
Прощание с пассажиром было коротким. Он лежал на брезенте с закрытыми глазами. Разница между бодрствованием и сном потеряла для него свое значение. Шофер и Горыч пожали вытянутую вдоль туловища руку и, присев рядом с пассажиром на корточки, раскурили по «беломорине». Докурив, вернулись в кабину.
Мотор завелся. Слепая машина медленно поползла вперед.
На морской глади безвольно покачивалась грузная баржа-самоходка. Свисал с невысокой радиомачты обмякший от безветрия флаг военно-морских сил, а на палубе молча сидели два матроса. Один был рыжий, в веснушках и с бородой. Второй – сразу видно, что почитатель устава, – был гладко, до синевы, выбрит, коротко, а местами и наголо самоострижен, ко всему прочему сидел он так ровненько, словно ему дали команду «смирно!», разрешив при этом не вставать. Его лицо, не выдававшее даже при разговоре или споре никаких настроений и эмоций, так и просилось маленькой фотографией в любой официальный документ, дававший право или разрешающий действие.
– Харитонов! По возвращении я напишу на тебя рапорт! – совершенно равнодушным голосом, но безукоризненно по-русски говорил уставной матрос. – Ты не выполнил за последние два месяца ни одного моего приказа!
– Да ну… – устало вздохнул рыжий. – Но ведь нет никого! Машина сдохла смертью храбрых. Если бы я все эти два дрейфовых месяца брился к утренней поверке, мы бы…
– Что «мы бы»? – равнодушно перебил уставной.
Рыжий махнул рукой и отвернулся. Перед глазами второго появился патлатый затылок.
– Младший матрос Харитонов!
– Я, – не оборачиваясь, отозвался рыжий.
– Приказываю спустить флаг!
Рыжий обернулся и недоуменно заглянул в прищуренные от внутреннего размышления глаза старшего матроса.
– По флагу нас может обнаружить вражеская авиация, – монотонно произнес уставной.
– И то правда, – Харитонов поднялся и потянулся к радиомачте. – Два месяца ничего вражеского. И своего ничего. Должно же это кончиться!
– Поменьше рассуждай, Харитонов. Флаг снял?
– Да. И куда его теперь?
– Заверни во что-нибудь и всегда имей при себе!
– Послушай! – дружелюбно заговорил рыжий. – Может, ты мне все-таки скажешь: что случилось? Мы с тобой выросли вместе, вместе работали, вместе пошли на флот, когда гады напали. Попросились на один корабль. Ну достался нам этот лапоть, но ведь уже пятый год война и пятый год мы делаем свое дело. И пятый год ты как деревянный истукан…
– Прекращай, Харитонов! – перебил его уставной. – Я – старший, я отвечаю за груз и за судно, а ты – моя команда, поэтому и должен выполнять все мои команды. Понятно?
Харитонов провел пальцами по своей бороде.
«Нет чтоб лопатой вырасти! – подумал он. – А так какая-то саперно-лопаточная! Можно подумать, что баржа перевернется, если я бриться не буду!»
Над судном закричали чайки. Они привыкли летать за кораблями и ловить на лету подброшенный корм. Но этот корабль не плыл. Чайки кружились над ним, опускаясь все ниже и ниже. Одна села на радиомачту.
– Харитонов! – позвал уставной и многозначительно указал взглядом на крикливых птиц.
Харитонов понял, вздохнул, поднял с палубы автомат и, не целясь, с пояса выпустил очередь в чаек. Чайки, испуганно закричав, взмыли к безоблачному небу.
– Опять ни в одну не попал, – мрачно констатировал старший матрос. – Сколько патронов осталось?
– Три магазина, – ответил Харитонов.
– Не густо… Ладно. Спустись в трюм и проверь груз.
Рыжий вяло поднялся на ноги. Он посмотрел на солнце и, замерев и прищурив глаза, подставил его теплу свое веснушчатое бородатое лицо.
– Уйди куда-нибудь! – утомленно попросил старший матрос.
– Слушаюсь… – шепнул сам себе рыжий и поплелся на бак.
Последний раз они видели землю больше двух месяцев назад, когда, получив на борт очередной груз динамита и бикфордова шнура, поздней ночью отвалили от притопленного причала и взяли курс на изученную за четыре года назубок часть побережья, где свои ребята во вражеском тылу занимались обычным военно-диверсионным делом. Сколько всего они перетащили на своей самоходной барже к месту выгрузки – не сосчитать. Сосчитать можно было, к удивлению, лишь немногочисленные налеты вражеской авиации, пару увиденных на горизонте неизвестно чьих крейсеров и несколько десятков штормов. Как раз последний из них и стал причиной их уже более чем двухмесячного мотания по водам и волнам: сначала о какой-то подводный камень срезало винт, а позже машина и вовсе стала, хотя без винта она и так мертвая!
Харитонов все четыре года думал об одном и том же: все пытался объяснить себе, каким образом и из-за чего Федька Грицак, Федька, с которым вместе рос, вместе рыбачил на родном озере Лача, так изменился, как когда-то изменился дед Харитонова, узнав, что Бог – это опиум, а зимняя церковь – набор хорошего кирпича для кладки рыбачьих печей. Но про Бога и про церковь говорили с трибуны. А кто и с какой трибуны сказал Грицаку, что Харитонов, моторист единственного на Лаче парохода «Никитин», сразу после мобилизации на войну объявляется, мягко говоря, полудурком?! Харитонов этого не слышал. Честно говоря, он очень сомневался, что кто-то мог взять на себя смелость заявить такое пусть даже одному Федьке Грицаку. Харитонов вообще любил сомневаться. Любил он это не от отсутствия уверенности в правильном понимании всего происходящего, а, наоборот, из-за постоянных попыток сравнить свое понимание момента с пониманием других людей. Пятый год он был лишен возможности сравнивать различные понимания, но тем сильнее в нем развилось умение сомневаться и из собственных сомнений делать выводы. В детстве, первый раз увидев и взяв в руки газету, но еще не умея хорошо читать, он лизал языком непонятное слово, напечатанное жирным черным шрифтом, чтобы по его вкусу понять значение. И хоть вкус свинцовой типографской краски не принес ожидаемого открытия, привычка все познавать собственными силами осталась у Харитонова на последовавшую вскоре взрослую и отчасти сознательную жизнь.