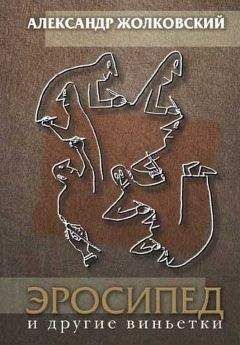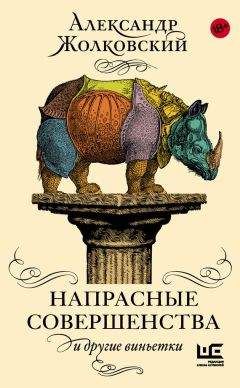Между тем, претензии к моему почерку требовали практического решения, и им стало овладение машинописью. У папиной тети нашлась старая портативная машинка, и теперь машинисткам я отдавал текст, вчерне уже напечатанный. Но оставалась проблема латиницы. И тут в мою жизнь вошел предмет, буквально материализовавший чисто платоновскую до тех пор идею пишущей машинки Тьюринга.
Андрей Зализняк связал меня с уникальным мастером (по фамилии Курчев), который за умеренную плату творил небольшое чудо. Покупая у ветеранов ВОВ и их наследников трофейные машинки Mercedes, из двух латинских он сооружал одну двухалфавитную. Он вырезал каретки из корпуса; на молоточки одной наплавлял русский шрифт (а на клавиши наклеивал русские буквы); и с помощью специальных штифтов делал каретки съемными, причем так, что перестановка не сбивала строки. Потренировавшись, я довел время смены каретки до рекордных 37 секунд.
На курчевской машинке я проработал полтора десятка лет, вплоть до эмиграции (1979). Готовясь к отъезду, я решил взять ее с собой. Я, конечно, знал, что на Западе, да и у моих наиболее продвинутых машинисток, были IBM-овские электрические машинки со сменными шариками — наборами разноязычных шрифтов. Но неизвестно было, когда еще на неведомом Западе я смогу позволить себе подобную роскошь, да я и побаивался этих электротехнических агрегатов. А привычное и надежное изделие русского умельца давало шансы какое-то время продержаться.
Вызванный напоследок отрегулировать машинку, Курчев удивил меня. Он отказался взять деньги. «Вам нужнее», — повторял он, и я отступился, хотя как раз деньги, мало подлежавшие вывозу, у меня были. Я почувствовал, что, преподнося мне в дар этот прощальный сервис, он символически присоединяется к моему отъезду, возможно, надеясь, что в заветной лире созданного им западно-восточного гибрида его душа отчасти убежит советского тления.
В Итаку машинка после долгих странствий прибыла помятой и потребовала дорогостоящего ремонта, каковой, впрочем, оказался мне по карману. Более или менее за те же деньги можно было бы купить новую электрическую с шариками, но я сохранил верность доброй старой мерседесовской. В ответ она честно служила мне на Восточном берегу и последовала за мной на Западный (1983), хотя еще в Корнелле официально обрела музейный статус, когда единственная в Америке компания, производившая ручные машинки, объявила о прекращении их выпуска.
Не вдаваясь в психоанализ своего упрямства, отмечу эмблематичность этого симбиоза человека и машины. Трудно вообразить более наглядное выражение — нежели мой вдвойне коллекционный, одновременно антикварный и уникально модернизированный аппарат, — для комплекса противоречий, уживающихся в новоявленном американце, который бойко, хотя и с неистребимым русским акцентом, разглагольствуя по-английски, рекламирует на постмодерном западном рынке свой советский структурно-семиотический товар.
Году в 1986-м, подталкиваемый приятелем — энтузиастом новой техники, я купил свой первый компьютер и редакторскую систему Academic Font, изобретенную неким калифорнийским компьютерщиком-славистом. Расстался я с ней — в пользу WordPerfect’а — лишь через десяток лет, под давлением окружающей среды, причем этот переход затянулся до момента, когда впору было уже подумать о Windows. С ними я тоже долго упрямился, лелея надежду переждать их, чтобы потом перескочить прямо в то, что придет им на смену. В конце концов, сколько революций — политических и технических — может вынести один человек?!
Апология собственной косности была и на этот раз примерно та же: сила привычки, неподъемность кириллицы, убеждение, что отличное злейший враг хо-рошего. На новизну работали мощные факторы, но я упорно держался прошлого и невольно смешил коллег, говоря: «I don’t do windows» (оказалось, что это стан-дартная фраза наемных уборщиц, означающая, что мытье окон в их обязанности не входит). Неожиданную солидарность в своем цеплянии за DOS я встретил у Ирины Паперно, оснащенность научных работ которой новейшим интеллектуаль-ным арсеналом сомнению не подлежала. Мы морально поддерживали друг друга по телефону, сетуя на ненужные технические новшества и делясь домашними ре-цептами их обхода.
На Windows я перешел, но, так сказать, одной ногой. В кабинете у меня стоит старенький DOS-овский компьютер без Windows и электронной почты, который я уже скоро год, как не выключаю из сети, — с тех пор, как он однажды долго отказывался заработать. На другом столе располагается компьютер средних лет, в котором целиком скопировано содержимое его соседа и вдобавок имеется MS-Word и система перекодировки на него с DOS-а. А в другой комнате целый угол занимает новая система, где есть все — и Windows, и e-mail, и выход в Интернет, и специальный драйв для фильмов (DVD), и цветной принтер, и сканнер с системой распознавания текстов на многих языках. Скопировано туда и все мое DOS-овское богатство. Хотя дни DOS’а сочтены, эти строки я пишу на самом древнем своем компьютере без окон, без дверей. А за моей спиной, на полу около камина, так сказать, на запасном пути, стоит Mercedes со сменной кареткой — давно не пускавшееся в ход, старое, но, в принципе, грозное оружие. Недавно, работая над статьей, я по телефону изложил ее замысел Ире Паперно. Она спросила:
— И это все?
В ответ на ее недоумение я пустился объяснять, что многое еще предстоит сделать, развить, в статье, по-видимому, будет то-то и то-то, в концептуальном же плане, в общем, да, все, а чего вам, собственно, не хватает?
— Как? Без субверсии, деконструкции, демифологизации? — Она явно намекала на мои ахматоборческие работы. — Простой структурализм?
— А-а, да. Структурализм от сохи. Так сказать, статья на DOS’е.
Ира с удовольствием повторила эту формулировку и потом несколько раз мне ее напоминала.
А что, в нашей науке всегда есть место дедовским способам. Я много раз убеждался, что в любую самую изученную область, где, казалось бы, не протолкнешься, достаточно просунуть руку, чтобы поднять с полу что-нибудь никем не замеченное, хотя и давно лежащее на виду. Примерно так же думал я и смолоду. Но тогда я полагал, что подобные дерзости осуществимы исключительно с помощью новых, структурных методов. А с течением лет я пришел к мысли, что методы годятся всякие — не исключая и устаревших тем временем структурных. И в случае успеха, все равно, рапортовать ли о нем на Windows, DOS’е или Mercedes’е.
Консерватизм психологически понятен еще и потому, что нашим прошлым является детство, сохраняющее притягательность, даже если проходило оно не в лучших условиях.
Два года моего детства — от четырех до шести — пришлись на эвакуацию. Мы жили сначала в совхозе под Свердловском, а потом в самом городе, на ВИЗе, т. е. в поселке Верхне-Исетского Завода. Папа работал в Свердловской и переведенной на Урал Киевской Консерватории, так что мы не голодали. Все же питались мы (папа, мама, папина мама и я) много скромнее, чем раньше; часто ужин состоял из картофельного блина, крест-накрест разрезанного на четыре части.
Последствия такой диеты для моего здоровья были самые благотворные — я излечился от мучившего меня в Москве диатеза, против которого были бессильны (или который вызывали?) бесконечно испытывавшиеся врачами комбинации соков, фруктов, бульонов и т. п. У меня развился бешеный аппетит (сохранившийся по сей день), и меня ставили в пример капризной малоежке Наде из другой музыкальной семьи, жившей в совхозе в той же избе, что наша и еще две эвакуированных. Роль образцового пай-мальчика неблагодарна, и понятно, что Надя должна была меня возненавидеть. Во всяком случае, именно так я предпочитаю объяснять себе оскорбительное равнодушие, проявленное ею к моим воздыханиям, когда восемью годами позже мы оказались в одном и том же пионерском лагере Союза Композиторов.
Интересно, что и на этот раз причиной моей отправки «в люди» послужили исторические события: папа был уволен из Консерватории в ходе кампании против «космополитизма» (1949 г.), и об отдыхе в композиторском Доме Творчества где-нибудь в Карелии или на Рижском взморье пришлось на некоторое время забыть. К удивлению родителей, я был в восторге от лагерной жизни и охотно остался на второй месяц. Помню, как ужаснули маму (из Москвы вызвавшую меня к телефону в кабинет директора, чтобы обсудить вопрос о второй смене) мои слова, что «добавки дают вволю». Она решила, что нас держат впроголодь.
Так или иначе, мой аппетит, а с ним и здоровая неприхотливость в пище остались при мне. Впрочем, неприхотливость не то слово. Вернее будет сказать — требовательная приверженность к привычному минимуму: хлебу с маслом, котлетам с картошкой, чаю с сахаром.
Мама готовила не очень хорошо, да и мало этим интересовалась. По возвращении из эвакуации, а тем более после войны, благосостояние семьи поправилось. Появились и часто сменялись домработницы, готовившие кто как. Особенно запомнилась одна довольно старая и неаппетитная женщина по имени Анна Максимовна Гилинис. Она поступила к нам по рекомендации, после смерти некого генерала, у которого долго служила сиделкой. Готовила она невкусно (при генерале ее функция состояла в том, чтобы развлекать его разговорами), в супе попадались и волосы, зато, подавая папе очередное блюдо, она приговаривала на полушепоте нечто совершенно доисторическое, откуда-то чуть ли не из Островского: «Кюшшяйте, кюшшяйте, Ваше превсс-дит-сство!»