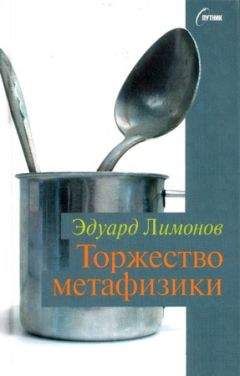II
Я приехал в чудный лагерек 15 мая. Когда мы ехали туда, в автозэке стояло мрачное невеселье. 13-й известен не только среди обманутых правозащитников и господ из ОБСЕ, очарованных плантациями роз в заволжских степях, но и среди зэков. Но зэки передают из уст в уши правду об оборотной стороне этого образцово-показательного Ада. ЕвроГулага. Чтобы не ехать туда, бывали случаи, когда зэки вскрывались, вспарывали вены. Я лично заранее знал, что меня отправят в 13-ю колонию, в чудный лагерёк, что это неминуемо. Поэтому я дергался ровно настолько, насколько дергается зэк, переводимый из одного тюремного учреждения в другое. Каковы будут условия содержания? Каковы будут мои новые товарищи? Как они ко мне отнесутся? В отношении администрации я не очень волновался, так как, судя по предьщущим тюремным учреждениям, по трем тюрьмам, в которых я сидел, администрации неизменно относились ко мне с напряженным вниманием. Привилегий мне не делали, но, опасаясь неприятностей, которые всегда подстерегают администрацию, если у них сидит знаменитый заключенный, администрации старались вести себя корректно. Не из приязни ко мне и не из любви к закону, но из боязни, что их начальству, а то и самому высокому начальству, произвол не понравится. Еще один фактор: обо мне обильно говорили СМИ, и внимание СМИ оказалось еще лучшей защитой. Страх потерять место и скатиться по служебной лестнице оттуда, куда они забрались с таким трудом, заставлял животастых мужчин среднего возраста с полковничьими обыкновенно погонами не притеснять меня. Поэтому я ехал себе, к тому же согреваемый полученным 15 апреля нетяжким приговором, всего четыре года, тогда как прокурор затребовал мне 14 лет.
— Отсидишь? — спросил меня на прощанье Васильич, старый облезлый капитан с третьяка, с третьего корпуса Саратовского централа.
— Легко, — ответил я весело.
— Легко отсидишь, на одной ноге отстоишь, — подтвердил Васильич тоже весело.
На третьяке раздавали сплошь и рядом пыжей, и двадцатники, и пятнашки! Я встречал осужденных, довольных 22 годами или 13 годами! К тому же в автозэке со мной из Саратова выехали товарищи, направлявшиеся в соседний лагерь №2 строгого режима. И уж им-то я совсем не завидовал, потому что успел посидеть в СИЗО №2 внутри этого лагеря в декабре. Они там под утренним черным небом горланили песни и щелкали каблуками, как в фашистском концлагере. И кричали в шесть утра: «Спасибо зарядке, здоровье в порядке!»
В мае нормально приехать в лагерь. Тепло. И к наступлению холодов успеешь обвыкнуть.
* * *
Мы спрыгнули из автозэка с баулами, и оказалось, что выскочили мы на широкий плац, залитый солнцем. Нам приказали выстроиться в шеренгу, баулы у ног. И стоять.
Так много света я не видел с того дня в июле прошлого года, когда нас, обвиняемых по делу №171, приземлили на военный аэродром где-то неподалеку отсюда, у города Энгельса, в этих же заволжских степях. В тюрьмах ведь мало света и совсем нет пространства. Солнце над нами пылало.
В этот день оно опять вышло на работу, как и всегда, как и 230 лет назад. Тогда, 230 лет назад, солнце заволжских степей видело лошадь, шапку, бороду, желтые сапоги и синий кафтан Пугачева и рядом буйных башкирских и калмыцких всадников и яицких казаков. Яик давно уже называется рекой Урал. А Яицкий городок недалеко отсюда, через границу с Казахстаном, и называется он город Уральск. А Казахстан получил эти и другие обширные русские земли на халяву, в 1991 году, воспользовавшись предательством Ельцина, размышлял я.
Интересно, что в этих же местах, чуть севернее по Саратовской области, есть город Пугачев. Когда-то он назывался Мечетная слобода… По совпадению судьбы я обвиняюсь в попытке создать незаконное вооруженное формирование с целью оторвать от Казахстана Восточно-Казахстанскую область… А в Мечетной слободе раскольничий митрополит Филарет Семенов рассказал беглому казаку Пугачеву о беглом солдате Богомолове, назвавшемся Петром III, и о Яицком городке…
— Савенко! — закричал голос. — Савенко! Ты что, спишь?
И я пошел к группе военных. Остановился. «Эдуард Вениаминович, 1943 год, осужден 15 апреля 2003 года на четыре года. Начало срока 7 апреля 2001 го, конец срока 7 апреля 2005 года», — оттараторил я.
— Жалобы на конвой есть?
— Жалоб нет, — сказал я. Заметил, что среди них был военный с седой бородой. Очевидно, доктор. Впоследствии так и оказалось.
Они смотрели на меня как будто между прочим, как будто на простого зэка. Делали вид. Зная между тем и мое дело, и степень моей известности. Глубоко в глазах их сидело офицерское пенитенциарное любопытство. Я решил им сказать, что доволен приговором и собираюсь сидеть спокойно. Проблем доставлять не буду.
— Вы не признали себя виновным, — сказал один из них.
— Нет, не признал, но приговор мы не оспаривали.
— Встаньте на место, — сказали мне.
Я пошел и встал, где стоял до этого.
* * *
Потом нас повели в баню, где жестоко обшмонали. Раздев догола. Чтобы сбить с нас спесь, если какая осталась после тюрьмы. Нас запускали порциями в одно из банных помещений, где на стульях у стены сидели офицеры. Вначале нас, как луковиц, ободрали от носильной одежды, а затем, позволив нам натянуть трусы, предложили вывалить содержимое наших баулов на пол. Мы — голые, на корточках, они — одетые, на стульях. Унизительно, как в Освенциме.
«Нельзя», «не разрешается» только и цедили офицеры, обмениваясь злыми шутками в наш адрес. Свитер с горлом — нельзя, можешь закатать в горло свитера запрещенные предметы, одежда разрешается только черная (в этом мне повезло, я и на воле ходил в черной), не разрешается одежда с надписями, либо рисунками, либо знаками. У меня немедленно отобрали мой засаленный тулуп, лыжную шапку и многие другие страшно нужные предметы. Запрещено было почти все.
— Я хочу сдать эти вещи на склад. Когда буду освобождаться, они мне понадобятся, — сказал я, указав на запрещенные мои дорогие одежды.
— Родственники привезут, — меланхолично процедил офицер. — Освобождаться успеешь… Ты только заехал… А склада у нас нет. За хранение нужно платить.
— Готов платить за хранение, — подтвердил я.
Санек Быков, старший нашей хаты №156 на 3-м корпусе Саратовского централа, недаром проводил со мной инструктаж. Благодаря Сане все мои вещи сохранились, и с меня за их хранение не взяли ни рубля. Склад у них был, но офицер привычно лгал. Саня меня ввел во все эти тонкости, у него была шестая ходка. Спасибо, Санек! Пусть тебе легко сидится!
Потерпев фиаско с моими вещами, офицер решил взять реванш.
— Бороду придется сбрить, — сказал он.
— Готов, — сказал я. — Можно сейчас?
— Можно, — сказал офицер.
Я взял у обривающего в углу зэков быка из хозобслуги электрическую машинку и, встав в трусах перед зеркалом, сбрил в несколько движений бороду. Даже поранив губу.
— Ну зачем уж так, — сказал «мой» офицер. — Могли бы потом в бане.
Они ожидали, что я буду упираться. А я решил сразу уничтожить этот камень преткновения, дабы не давать им повода наезжать на меня. Я проходил два года в бороде в трех тюрьмах, где в принципе борода запрещена, я был единственным длинноволосым и бородатым узником среди шести тысяч зэка Саратовского централа. Я себя отстоял. Волосы с головы я сбрил еще 16 апреля, на следующий день после приговора. А вот сейчас уничтожил бороду. И тем их обезоружил. Дело было в том, что здесь за отказ сбрить бороду я мог уехать в карцер, а каждое пребывание в карцере откладывает возможность условно-досрочного освобождения на шесть месяцев. А я торопился домой, к Партии.
Горячий день. Горячие розы. Горячий ветер. Знойное зияющее небо. Мы, восемь зэков из карантина, плюс завхоз Савельев, плюс бригадир Сурок, плюс ночной дежурный Сорокин, плюс ожидавший перевода на 33-ю зону Мелентьев, изо всех сил стучим ботинками по старому асфальту. Впрочем, стучим только мы, начальство идет рядом прогулочным шагом. Мы маршируем в столовую. Строевым шагом.
— Как идете? — вдруг орет Сорока (т. е. Сорокин).— Шаг!
Мы уже знаем, что при вопле «Шаг!» следует слаженно топать, согнув ногу в колене, изо всех сил опускать ее на асфальт, чтоб пыль клубилась.
— Шаг! Шаг! — орет Сорока.
Мы проходим мимо отрядов, из-за прутьев заборов на нас вылупилось все население колонии. Я знаю, что это из-за меня, редкой птицы. Но и вообще свежепоступивших здесь усиленно разглядывают, вдруг знакомый или сосед «заехал». Я иду во второй шеренге, в первой пятеро, а во второй нас только трое: я, Эйснер, в нем росту всего метра полтора, и хмурый Мелентьев. Будешь хмурым, он сидит двенадцатый год, срок у него пятнадцать. Впоследствии я буду вспоминать его каждый день, стоя на проверках за его подельником Васей Оглы. Но я еще об этом не знаю, Вася Оглы появится в моей жизни лишь через неделю.