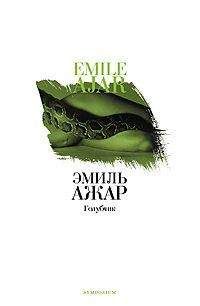Тогда я спросил у милейшего доктора, не потому ли мне пришлось стать удавом, что евреев уже две тысячи лет разводят в качестве мытарей и кровопийц, и он ответил, что это вполне возможно, что ради литературы я способен на все, и в том числе на самого себя.
Я вспомнил о Тонтон-Макуте. Он известный писатель и всегда умел сделать на ужасе и страданиях хорошенький литературный капитал.
Я снова стал писать книги.
Как видите, положение безвыходное. Я окружен со всех сторон и ощущаю принадлежность.
Есть у меня в больнице один коллега, который расшифровал иероглифы одного египетского диалекта доколумбового периода, и когда он стал думать и говорить на этом совершенно несуразном, неведомом и бесхозном языке, то оставил некоторые иероглифы нерасшифрованными, чтоб оставалась надежда. Их смысл неясен, и, значит, они могут скрывать в себе что-то подлинное, отгадку и ответ. Вот счастливый человек. Он думает, что нашел совершенно нетронутую вещь.
* * *
В этом документе я не соблюдаю хронологию, порядок и правила: достаточно я прочел детективов, чтобы знать, что порядок ведет за собой полицию, и не для того я прячусь тут, в копенгагенской клинике доктора Христиансена, сами понимаете.
Я недостаточно плохо знаю датский язык. Когда начальство выпускает меня погулять, датчане говорят мне об Аргентине, Чили и Северной Ирландии, и вид у них осуждающий. Прохожие бормочут мне по-датски жуткие вещи, которые они обо мне узнали.
Вы спросите, как я понимаю, что говорят на совершенно неизвестном мне языке.
Не смешите меня.
Я прирожденный лингвист. Даже молчание я слышу и понимаю. Это особенно страшный язык, и понять его легче всего. Забытые и заброшенные живые языки, на которых никто не говорит, — эти просто вопиют, чтобы их поняли.
Существует еще огромная проблема дыхания.
В первый раз меня изолировали, когда окружающие заметили, что я тысячи раз, с утра до вечера, задерживаю дыхание. Сначала мне надавали по морде, потому что это было обидно, и негуманно, и оскорбительно для Паскаля, Иисуса и Солженицына. Или по росту: Солженицына, Иисуса и Паскаля. Плевок в лицо человечеству, то есть величайшее оскорбление, какое можно нанести литературе. Я тогда был коммунистом, но уже давно сдал билет, чтобы не бросать тень на партию, потому что я подрывной элемент. Я стоял на тротуаре, вокруг было полно людей, они видели, что я пытаюсь не дышать с ними одним воздухом. Люди вызвали полицию на случай нарушения в общественном месте. В фургоне, видя, что я по-прежнему не дышу и даже затыкаю нос, эти суки набили мне морду за оскорбление органов дыхания при исполнении.
Когда комиссар полиции увидел, что я стою перед ним, не дышу, затыкаю нос и делаю утреннюю гимнастику, он жутко разозлился и сказал, что тут у них не Аргентина и не Ливан, а наоборот, Кагор, что тут не пахнет дерьмом, кровью, гнильем и трупами. И что я могу дышать, как того требует все человечество.
— Нечего тут мне вкручивать.
Но мы были не только в Кагоре. Мы были везде. Этот мудак будто не подозревал, что Пиночет и Амин Дада — это мы с вами.
Нечего тут мне вкручивать. Кажется, именно так сказала первая яйцеклетка первому встречному сперматозоиду, но яйцеклетка была беззащитна, и последнее слово осталось за гадом.
А потом у меня в Кагоре завелись новые враги. Я хотел быть как сказители-арабы, я вставал в рыночный день посреди улицы Клемансо и рассказывал свою жизнь. Мне опять набили морду. В участке комиссар Отченаш серьезно поставил мне на вид.
— Да что я такого сделал, господин комиссар? Я просто рассказывал свою жизнь.
— Ваша жизнь, Павлович, сплошная мерзость. Люди возмущаются, когда вы при них говорите такие гадости.
— Да обычная жизнь, как у всех, господин комиссар. Комиссар Отченаш густо покраснел.
— Вот как дам сейчас в морду!
— Я же говорил, все как у всех.
— И хватит заниматься порнографией. Смотрите у меня. Вы псих, вот и ведите себя как псих, и никто вам слова не скажет.
Я стал как бы вроде что-то изображать, и меня тут же оставили в покое.
Иногда я встречался с друзьями в вокзальном буфете. Один был водопроводчик, другой бухгалтер, третий где-то служил. Конечно, на самом деле они не были ни водопроводчиком, ни бухгалтером, ни служащим. Они совершенно другие люди, но никто об этом не подозревает, и они как бы вроде что-то изображают по восемь часов в день — и никто их не трогает. Они живут, скрываясь внутри себя, и выходят наружу только по ночам, в грезах или кошмарах.
И тогда пришло поразительное известие: американские ученые сумели получить искусственный ген, базовую единицу наследственности. Искусственный. Я так воодушевился, что вылетел голый на улицу с криками: «Алилуйя!» Меня тут же отвели в участок, и когда я объяснил комиссару Отченашу, что у нас будут корни, что мы наконец-то будем друг друга рожать и каждый станет плодом собственных усилий, а не просто каким-то сукиным сыном, что наконец-то появится человеческий род без первородного греха, полиции и ядерной стратегии, — все в едином порыве набили мне морду. Но я все равно верил и бегал по улицам, раздавал листовки и вопил, что на папиных генах можно поставить крест. Меня изолировали.
Можете сами проверить. Все описано в «Журналь дю Кагор» за 25 мая 1972 г.
Важно уяснить себе, что я человек — безответственный.
Мальчишкой я стеснялся старшего брата. Он остановился в развитии и вынужден был всегда оставаться молодым. Я не хотел его видеть. У него был такой недоумевающий взгляд, как будто он спрашивал, кто ему это сделал и за что. Тогда я еще не знал, что непонимание превосходит и знания, и талант и что последнее слово всегда остается за ним. Взгляд моего брата ближе к истине, чем Эйнштейн.
Я объявляю во всеуслышание: я против ДНК, я против фактора наследственности. Это не фактор, а уголовник какой-то.
А потом начались ночные звонки. В первую ночь мне позвонил Плющ. Тогда Плющ был таким математиком, гением человечества, и другие гении человечества из Советского Союза поместили его в психиатрическую лечебницу, с тем чтобы соответствующими химическими средствами довести до безумия. Сегодня, когда эта книга вышла в печать, Плюща зовут Буковский, но это он просто сменил фамилию.
Советские психиатры — самые ярые враги СССР, они дискредитируют его перед всем миром. Как-нибудь их отдадут под суд, потому что они работают на ЦРУ.
— Ну что, Женя?
Иногда я от скуки зову себя Женя.
— Да ничего, А кто говорит?
— Плющ.
«Не может быть, — подумал я. — Это опять мои человеческие свойства чего-то там наваляли».
— Не знаю никакого Плюща.
Тогда он просто сказал мне так, что я никогда не забуду:
— Конечно, вы меня не знаете, Женя. Вы же нормальный человек. Сотни миллионов человек не знают меня и совершенно по этому поводу не волнуются. Спите спокойно.
И повесил трубку.
Вы не поверите, если я вам скажу, что через десять минут позвонил Пиночет. Тогда много говорили о Пиночете, потому что еще к нему не привыкли.
— Все в порядке, старина? Лицо, глаза, зубы, руки целы?
— Отвалите. У меня с вами нет ничего общего.
— И так всю ночь. Я просидел у телефона до рассвета. Звонили из Индии, из Бангладеш, из Камбоджи, из Африки. Особенно много звонило покойников. Когда начинаешь говорить по телефону с покойником, беседе конца не видно. Я установил автоответчик. Современное изобретение, признак цивилизации, он специально для того и создан, чтобы говорить, что меня нет в природе, что нет Павловича, что я — мистификация, розыгрыш, и вообще по другому делу. Конечно, некоторые внешние признаки существования налицо, но это только литература.
Ничего не вышло.
Бывают люди, у которых совесть с автоответчиком. И все прекрасно. А я никогда не умел правильно устроиться.
* * *
Мне снова пришлось прибегнуть к своей системе защиты, и я сумел избавиться от всего, особенно от галлюцинаций. Я снова стал удавом, который не обязан ничего знать и не обязан отвечать по телефону. Ни Плющ, ни Пиночет не могут позвать удава среди ночи к телефону.
Они пытались говорить со мной из-за двери. Суки-полицейские. Я вопил:
— Отвяжитесь. Не знаю, что я опять натворил, я газет не читаю, но это не я. Не мой почерк. Я — мерзкое пресмыкающееся. Во мне нет ничего человеческого. Я за себя не отвечаю.
Они взломали дверь, но я подготовился. Купил мышей, даже крыс. Я стал глотать их на глазах у полицейских, чтобы доказать, что я — удав и с Пиночетом ничего общего не имею.
Опять меня засунули к нонконформистам.
Я успокоился. Телефонные звонки прекратились. В качестве питона я имел право на необщительность.
Тогда-то моя система защиты и начала действовать по-настоящему.
У меня есть дядя, которого я зову Тонтон-Макут, потому что во время войны он был летчиком и с большой высоты уничтожал мирное население. Время от времени он проходил курс дезинтоксикации в Копенгагене, в клинике доктора Христиансена. Он не пьет, не принимает наркотиков, поэтому я думал, что он таким образом выводит из себя убитое мирное население. Дезинтоксикация себя самого от себя же.