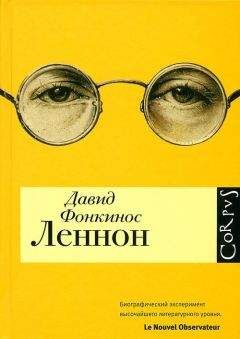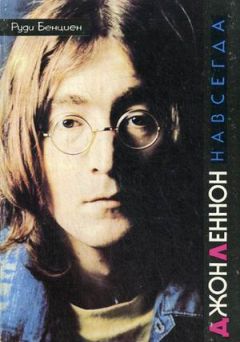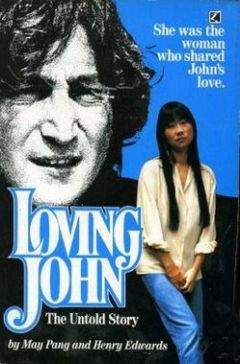В общем, вы сами видите: я старался. И сейчас, когда мы разговариваем, весь мой горький опыт со мной. Мне сейчас больше всего хочется отдохнуть. Обрести чистоту. Во сне мне снится такое, что я в ужасе просыпаюсь. Меня преследуют кошмарные воспоминания. Воспоминания детства… Воспоминания об ужасных поступках, которые я совершил… Сколько же во мне было злости! Я чуть ли не голыми руками был готов убивать. А, ладно. Не знаю, надо ли вам рассказывать про все свои гнусности, хоть это и правда. Наверное, все же надо. Может, пора ступить на этот путь. Время пришло.
Йоко родила. Представляете? Я — отец. А мой сын… Мой сын Шон — гений. Я это чувствую. Раньше был Моцарт, был Эйнштейн, а теперь вот появился Шон. Ему хватило хорошего вкуса родиться в день моего рождения, в тот день, когда мне исполнилось тридцать пять лет. 9 октября 1975 года. Нет, точно, девятка — мое число. Родился девятого, с Йоко познакомился девятого. Могу еще привести десятки примеров, которые объяснят, почему я убежден, что вся моя жизнь проходит под знаком этой цифры. Готов спорить, что и умру я девятого. Эта завершающая цифра цикла. Цифра, возвещающая начало новой эры. И как раз это и произошло. Рождение моего сына сопровождалось еще одной радостной новостью. Адвокат сказал, что я наконец-то могу стать американским гражданином. После стольких лет борьбы с иммиграционной службой я становлюсь здесь своим. У меня такое ощущение, что я вдруг очутился на коврике перед дверью, за которой — нормальная жизнь. Я очень хочу пожить этой жизнью. До безумия хочу. Хочу быть рядом с Шоном. Все остальное не имеет никакого значения. Нет больше никаких «Битлз». Нет музыки. Нет Никсона. Ничего нет. Есть дом, и мы дома, сидим и наслаждаемся каждой проходящей минутой. Я стою на четвереньках, но у меня такое чувство, будто я бегу.
Я знаю, что наверстываю время, которое не сумел провести с моим первым сыном, Джулианом. Всю жизнь, за что бы я ни брался, сначала был провал, а потом все получалось. Джулиан родился, как раз когда я родился для мира. Я был сволочью, как и все, кто добивается успеха. Мы любим своих детей по-разному, потому что мы сами разные в те моменты, когда они у нас появляются. Может, в этом все дело. Он родился в неподходящий момент. И потом, я понятия не имел, что надо делать, я никогда раньше не был отцом, и у меня не было примера. Иногда мне хочется что-то предпринять, наверстать упущенное, дать ему то, что я должен был дать, но у меня ничего не выходит. Я не видел его много лет. Никогда по нему не скучал. Недавно он к нам приезжал. Но я не очень понимал, что мне с ним делать. Я даже приласкать его не мог — был на это не способен. Смотрел в его ждущие глаза и вспоминал, как сам пылко вымаливал у матери немножко тепла. Наверное, я должен был растрогаться, но нет, не растрогался, а порой просто злился. Мне случалось бывать злым… Знаю. Моя любовь к нему искажена, и ничего с этим не поделаешь. Между нами — целые вселенные холода. Отлично сознаю, что после появления Шона положение еще ухудшилось. Он же видит, что я с ума схожу от любви к этому ребенку. А когда он рос, главной для меня была любовь шприца к вене.
Встреча с Йоко стерла всю мою предшествующую жизнь. После того как я ее поцеловал, у меня отшибло память. Образ Джулиана расплылся. Он стал пережитком эпохи, которой в моем сознании больше не существовало. Я говорю об этом, пытаюсь найти какие-то резоны, хотя, наверное, это глупо — рассуждать о любви. Думать о том, что чувствуешь, или о том, чего не чувствуешь. Я — человек, живущий эмоциями. Я всегда ощущал на себе гнет собственных чувств. Поэтому я не люблю описывать словами то, что можно почувствовать только сердцем. Да и что скажешь, если сердце молчит? Ваши коллеги правильно говорят, что родители бывают двух типов: одни воспроизводят готовые схемы, другие их разрушают. Так вот, я человек самых разных схем. В этой жизни я кем только не был и в воспитании веду себя так же. Я окружаю Шона всем, чего сам был лишен. Мы с Йоко подарили ему прочную семью и солнечную любовь. А с Джулианом я повторил себя. Я передал ему корни своего зла. Подарил ему свое страдание. Воспроизвел заброшенность, жертвой которой был сам. Правда ли, что все решается в первые пять лет нашей жизни? Если да, то для меня музыкой, которая все решила, стала музыка отчаяния.
Музыка моей уязвимости.
В самом начале я услышал оглушительный шум бомбардировок. Я родился не на свет, а в хаос. На Ливерпуль сыпались немецкие бомбы. Знаете, все, что я сейчас рассказываю, — это смесь воспоминаний, рассказов моих родных и, возможно, всего того, что я мог прочитать о своем детстве. Я так знаменит, что моя жизнь принадлежит всем. Каждый имеет собственное мнение о том, что я пережил. Так что я уже ни в чем не уверен. Хотя сейчас все по-другому. Про меня потихоньку начали забывать, и я наконец получаю свободу передвижения по своим воспоминаниям без необходимости тащить чужие чемоданы. Могу ближе рассмотреть мальчика Джона. Могу взять его за руку.
В общем, вначале был грохот бомбардировок. Страх, от которого скручивает живот, остался со мной на всю жизнь. Скорее всего, это страх моей матери, посреди ночи побежавшей в больницу. Бежала она одна, потому что моим отцом был моряк. Долгое время я считал, что это круто — быть сыном человека, бороздящего моря. Подозреваю даже, что в детстве я убедил себя, что он из тех, кто сражается с пиратами. Когда я вырос, то понял, что в основном он сражался с нищетой. И работа, которую он выполнял на корабле, была далека от героизма. Он был стюардом и, похоже, еще мыл посуду. Но я очень хорошо помню, что каждое его появление дома превращалось в сказочное событие. Сказочное и очень редкое. Мы его почти не видели. Он исчезал на целые месяцы. Полагаю, он сильно страдал. Особенно от разлуки с моей матерью. Он любил ее до беспамятства. Они познакомились совсем молодыми и быстро нашли общий язык, намереваясь стать артистами. Отец пел, мать играла на банджо. Они собирались выступать дуэтом. Афиша, а на ней крупным шрифтом: Альфред и Джулия. Они были жизнерадостными людьми, но жизнь часто не любит тех, кто ей радуется. Они не получили того счастья, которое могли бы получить. Их роман обернулся сплошными неприятностями.
По моему мнению, я, как и почти все англичане, обязан своим рождением бутылке виски. От моего зачатия веет ночной субботней пьянкой. Когда моя мать забеременела, родители решили пожениться. Распрощаться с легкомыслием. Семья матери — я говорю «семья», хотя на самом деле там не было души, одна мораль, — в восторг не пришла. Мать окончательно подтвердила свою репутацию гадкого утенка. Да, она вытворяла всякие глупости, да, она никого не слушала, но никто и помыслить не мог, что она докатится до такого! Распутница! Внебрачный ребенок, да еще от какого-то пролетария! Опозорила всю родню! Чтобы произвести на них хорошее впечатление, отец облачился в приличный костюм. Но очень скоро обнаружил, что тот велик ему на несколько размеров. Он так никогда и не научился притворяться и выдавать себя за кого-то другого. Отличный актер, он умел играть только свою роль. Вот в такой атмосфере я и рос, пока был зародышем. Я бы предпочел, чтобы мое появление встретили улыбками, но оно стало источником тревоги. Конец песням, конец веселью. Я весил какие-то граммы, а уже стал неподъемным бременем. Ну и для полноты этой прекрасной картины добавим, что действие разворачивалось в декорациях мировой войны.
Соседнее с нашим здание обрушилось, многие из его жителей погибли. Едва успев ступить на дорогу, ведущую к жизни, я столкнулся с обгоревшими душами. Приходилось поторапливаться, времени на нормальные роды не было. Люди обливались потом и пытались в темноте разглядеть хоть что-нибудь. Чтобы не рисковать, они решили делать кесарево. Какой-то мужчина разрезал мою мать, и из ее живота вышел я. Вышел и закричал. Издал свой первый крик. Надо же, никому и в голову не пришло записать его на пленку. Сегодня этот крик стоил бы целое состояние. Росту во мне было несколько десятков сантиметров — почти что ничего. Моя тетка Мими рассказывала, что меня сразу же положили под кровать. На тот случай, если на крышу упадет бомба. Как будто кровать смягчит удар, если рухнет потолок. Ждать можно было чего угодно, все вокруг дребезжало, предметы падали с полок, а меня надо было защитить, но у матери совсем не оставалось сил. Она была молодая, красивая и наверняка мечтала, что начнет свою женскую жизнь как-нибудь иначе, не здесь, в темноте и кровище, под обвиняющим взглядом своей сестры. Меня мучает один вопрос: а испытала она в тот день хоть чуточку счастья? Мне кажется, что да. Особенно потому, что родился мальчик. Наконец-то в их бабьем царстве появился мужчина. Меня назвали Джоном Уинстоном — в честь Уинстона Черчилля. Но вряд ли это послужило к его чести, потому что я рос слабым, боязливым и до ужаса робким.