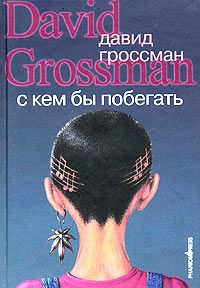Я учил их, объяснял он Били, когда познакомился с нею четыре года назад, я учил их, как ты учишь иврит, незнакомый тебе язык. Со всеми тонкостями и нюансами. Если ты хорошо знаешь язык, ты распознаешь неверную фразу, разве нет? — Что ты имеешь в виду? спрашивала Били. — Я имею в виду, что в своей деревне я могу распознать малейшее изменение. Малейшую напряженность. Или присутствие чужака. А умница Били спросила: Вопрос в том, понимает ли ты все как есть, изнутри, или ты умеет только нажать кнопку и получить output как автомат, скажем, а? И Гиди — парень прямой и никогда не позволявший себе тешиться иллюзиями, до жестокости требовательный к себе — был смущен ее вопросом. Он крутил его в уме и так и этак и не находил ответа.
Но большинство жителей приходило к нему только по его приглашению. Он вызывал их через определенные отрезки времени и распределял встречи так, чтобы за год повидать всех взрослых мужчин деревни. Его тешила мысль, что сами они ничего не знают об этом хитром планировании и не догадываются о том, какую роль каждый играет в общем спектакле. Они сидели у него недолго, старались удовлетворить его желания и немного смущали его, относясь к нему, как к отцу семейства. Как к кому-то, кто взрослее их, кто опытен и очень силен. Всегда ему приходилось привыкать к той небольшой перемене, которая происходила с ним, когда он пересекал зеленую линию[3] и становился просто Гиди. Они вели свои рассказы тихими приглушенными голосами и говорили обо всем, что он хотел знать. Они чувствовали, что он и так все о них знает, об их явной и скрытой жизни, и уже не размышляли над тем, кто из их друзей сообщил ему ту или иную интимную подробность их существования. Они больше никому не могли довериться, даже членам своей семьи, и от этого делались покорными и еще более безвольными, чем шесть лет назад. Он и сам почувствовал, что они уже давно не могут сообщить ему ничего нового, что они передали в его распоряжение не только всю информацию, но и свой внутренний мир.
Но он не желал — ни за что не желал — думать обо всем этом нынешним чудесным летним утром, когда шагал среди них, весь переполненный радостью, в поисках того единственного слушателя, которому стоит рассказать о рождении сына, первенца, и был слегка разочарован, когда понял, что все эти его старые знакомые сделались прозрачны и пусты, словно они слишком давно живут или слишком инфантильны и нет среди них ни одного сверстника, то есть не то чтобы сверстника, а — как бы это поточнее выразиться — близкого человека. То есть… то есть… какая-то досадливая забота одолела его. И еще нетерпенье.
Гиди никогда не верил, что они могут его ненавидеть за то, что ему приходится делать с ними по долгу службы. Он был уверен, что они ценят его деликатность, его уважительное отношение. Не то, что некоторые его коллеги, которые ради работы не гнушались прибегать к силе и даже насилию, явно или исподволь. Гиди ничего подобного не требовалось, и он был горд этим. Лишь однажды, года два назад, ему пришлось применить прием «скворца» к одному учителю из деревни, который вдруг сделался ретивым «вороном»-злопыхателем и начал каркать. Гиди несколько раз предупреждал его, удивил неожиданно точной цитатой из его обращенных к ученикам слов на уроке Корана, постарался разумно объяснить ему, куда это все может завести. Но тот отказывался понимать намеки. Он был мрачен и полон ненависти, и его резкие и хлесткие слова в адрес Гиди так не вязались с тихим неписанным соглашением, которое Гиди ввел в деревне. Гиди просто ничего иного не оставалось, как применить «скворца». Забавно было наблюдать в реальной жизни эту простую и одновременно хитрую уловку, преподанную им на курсе. Каждую неделю стали приезжать такие же, как он, офицеры, друзья Гиди, выряженные в форму старших армейских чинов. Они приезжали на шикарных военных автомобилях — не то что обычные убогие тендеры — и напрашивались на обед к «ворону». Отобедав, они просили его проводить их на улицу и там, на глазах у всех, дружески похлопывали по щуплому плечу, осыпали улыбками и подмигивали. В деревне стали переглядываться и похмыкивать. Операцию надо было проводить с умом и очень чутко. Ни в коем случае не возбудить открытой вражды к тому типу, лишь оставить его в изоляции. Через две недели ученики перестали являться на его уроки. Через месяц он забрал жену и четырех детей и перебрался в другую деревню. Оттуда пришло сообщение от Эвьятара, местного офицера, что малый ведет себя тихо. Стал ручным «вороном».
Кто-то сзади бежал и окликал его по имени. Гиди обернулся. Мухтар деревни, Хараби, силился догнать его, звал, улыбаясь, и путался ногами в полах длинного балахона. Гиди подумал — ему я расскажу, он для этого подходит. Он неподвижно ждал, пока подойдет мухтар — так было заведено по неписанному закону, согласно которому мухтар должен был идти навстречу офицеру, а не наоборот, пожал протянутую руку, крепко стиснул ее, чтобы не дать радостно взволнованному человеку броситься ему на грудь.
Мухтар забросал его вопросами, слова его скакали и сталкивались как капли внезапно хлынувшего дождя: где был абу-Дани? почему он вдруг исчез? надолго ли теперь вернулся? Вся деревня беспокоилась, сюда прислали другого офицера, не такой хороший, как абу-Дани, мы уже боялись, что он тут останется, и он тоже не хотел сказать нам, куда пропал абу-Дани, мы уже думали, абу-Дани больше нас не любит, усмехнулся он, увлекая Гиди за руку к себе в дом, — никуда он не пойдет, пока не выпьет кофе у Хараби, ведь Хараби от беспокойства почти не спит по ночам, ведь абу-Дани ему как сын, да что там как сын — как брат.
Без особого желания Гиди дал тучному, неуклюжему мухтару себя увести. Ему так хотелось еще побыть на солнце, на свету, пропитаться насквозь чистым, прозрачным воздухом, но он знал, что нельзя отказать Хараби, а кроме того, он ведь снова на работе и, как ни крути, должен посидеть с мухтаром и услышать, что нового приключилось в деревне.
Дом был просторен и источал уют. Они сидели в освещенной гостиной, свободно откинувшись в зеленоватых плюшевых креслах, и курили сигареты «Тайм», которые мухтар берег специально для Гиди. Он всегда открывал для него новую пачку, и это почему-то льстило Гиди как маленький персональный знак внимания.
— Так где же был абу-Дани все эти дни?
Гиди смотрел на смуглое, крупное и открытое лицо, на пристальный взгляд, выражавший доверие и близость, немножко чрезмерные и оттого вызывающие неловкость. За шесть истекших лет он видел на этом лице разные выражения — читал во взгляде глубоко запрятавшийся, трогающий душу страх, и лишенное последней надежды отчаяние, и рыдание, и большое облегчение. Иногда ему казалось, что он видит в нем искреннюю приязнь, приязнь, не зависящую от формальных отношений. При первых встречах Гиди отметил благородство этого человека. Он напоминал ему героев из древних арабских преданий. Потом уже он проникся к нему симпатией — как к человеку, а не как к преданию: мухтар был чувствительным, эмоциональным и знал, чем купить сердце Гиди. И Гиди был ему благодарен, потому что мухтар, сказать по правде, дал ему ключи к разгадкам многих жителей деревни.
— Со здоровьем все в порядке? — спросил мухтар, озабоченный молчанием Гиди, — в семье все в порядке? У детей? Как поживает твой Дани, а?
Порой, особенно в последний месяц, когда большую часть времени Гиди проводил дома, с Били, он размышлял о своей прошлой жизни, о том, что было после демобилизации из армии и до назначения на новую работу. Он сказал Били, что был тогда гораздо наивнее: «Правда, я был так наивен», — он гладил ее длинные каштановые волосы, а она удивилась: «Ты? Наивный?» — и рассмеялась нервным, быстро пресекшимся смехом, который появился у нее в последние месяцы сохранения беременности, и добавила, что жаль, что тогда она не была с ним знакома. Уж конечно, тогда ты был более обходителен, заметила она и поджала губы, отчего лицо ее приняло враждебное выражение.
Гиди не хотелось заводить перебранку, он только улыбнулся и промолчал, но про себя подумал, что прежде люди казались ему гораздо лучше, чем на самом деле. Гораздо более гордыми, интересными, естественными. Я и вправду жил в киббуце, как в парнике, он смущенно вспоминал о своей тогдашней незрелости, о том, что писал своей прежней подружке, грошовые мысли о том, что в каждом человеке есть загадка, тайна, благодаря которой он навсегда остается одиноким и ни на кого не похожим… Я был словно дитя, размышлял он, ребенок, со стороны глядящий на мир взрослых.
— Дела, работа, — промолвил наконец Гиди, глядя на жаждущее ответа лицо мухтара.
— А, работа! О работе я не спрошу! Рабо-ота!
Мухтар откинулся в кресле, лицо его приняло заговорщическое, почти карикатурное выражение.
— Так абу-Дани останется здесь, с нами? Мы ведь только его, верно?
— Только мои. Теперь снова все будет, как было.