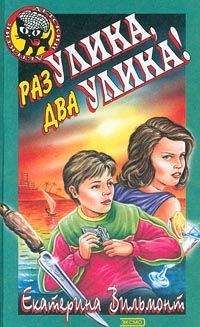— Да?.. Сочинить самим слова? Куплеты? — Это он кричал политику на экране. — И еще заодно музыку?.. А могли ли мы сочинить — могли ли мы сами написать слова? Спрашиваю — могли ли?
И вот тут он впрямую обрушился на самого себя. Его несло:
— И потому я признабюсь не через двадцать лет, а сейчас — мне нечего было бы написать в гимне. НЕ-ЧЕ-ГО. Слышишь, Лёльк!.. Но ведь и честные, мы никогда всего не говорим. Мы недоговариваем. Мы прячемся... Гимн — это же так просто. Это же понятно ребенку. Школьнику! В младших классах!.. Гимн — это же значит надо что-то славить. Хвалить. Воспевать... А что я мог бы честно... честно славить в этой стране? — В голосе вдруг послышались слезы.
Пьяные, но ведь слезы.
— Кто меня упрекнет? Как на духу... Но чем искреннее, тем больнее... Что? Что я могу славить в родном отечестве?.. Ответь прямо, Лёльк!..
Ответить прямо она не могла. Но его оклики, его бесконечные «Лёльк! Лёльк!..» оказались для нас все же с пользой. Лиля Сергеевна пришла наконец в себя. Она села в постели. Страх отступил...
— Тс-с... — Она нисколько не резко, но настойчиво прихватила меня за кисть руки. И дерг-дерг — подымайся... Подымайся, милый! Подъем!
Я сел. Соображаю... А она жестом во тьме (очень понятным движением рук от себя) показывает — уходи, милый, пора!.. Гонит?.. Ну да... Мол, пора расстаться. Мол, лезь в окно... Да, да. Именно в окно, милый. В окно!..
В полутьме мы яростно жестикулируем. Я кручу пальцем у виска. Я не придурок... В окно — а куда дальше? Этаж высок... Или я кот? Или мне там заночевать? Свернувшись на скосе крыши. Обняв трубу?
Однако с женщиной в ее доме долго не поспоришь. Конечно, не поспоришь! (Но, может быть, пенсионеру удастся удачно спрыгнуть?..) Я вяло одевался.
А Н. внизу за это время разошелся вовсю:
— Как?.. Как написать гимн, если... Все и всё. Власть — это понятно. Лёльк! Но ведь я могу перечислять и перечислять. Я честен!
И он начал:
— Власть — нам чужда. Армия — ненавистна. История — отвратительна. Это уже в-третьих!.. Есть и в-четвертых... И в-пятых. А ведь есть еще и в-главных — народ!
Стало слышно, как, яростно вопя, он вновь забегал из угла в угол. Затопал.
— Лёльк! Народ — пугает... Народ — страшит. Пугает нас своей темнотой. Своим черноземом. Лёльк! Своей голодной злобой. Своими инстинктами!.. Надо же уметь признаться, в конце концов.
В покаянии как в покаянии. Так надо. Когда мало одних поклонов. (Когда для полноты хочется еще и башкой о пол! О ступени!) И вдруг... молчание. Раскричавшийся Н. вдруг смолкает. Как оборвало... Похоже, он плюхнулся в кресло. Выдохся! Как с обрыва упал.
Стал слышен (негромкий) телевизор. И только музыка... Шопен... Мы с Лилей настороженно ждем. (Затаились.) Но уж слишком затянулось его молчание. Три минуты... Пять...
Луна. Вот она... Вышла наконец и она, родная, к нашим забытым окнам. Как не хватало ее молчаливого сияния. (Ее одобрения.) Глядит на нас с небес прямо и ясно. И что ей гимн!
Когда я перевожу глаза — Лиля стоит в лунном луче совершенно нагая. Похоже, она задумалась.
А я делаю свой первый шаг к окну... Посмотреть, высоко ли?
— Что ты? Зачем? — спрашивает Лиля шепотом.
Тоже шагнула. Прижалась... И шепчет, прижавшись, — мол, он уже попросту спит. «Что?» — «Вот так в кресле и уснет. Он часто так...» — «Не понял». — «Что тут понимать. Уснул в кресле». Под наш шепоток Лиля Сергеевна начинает быстро-быстро сдергивать с меня рубашку, которую я только что надел. Я помогаю. Затем мы вдвоем стягиваем мои брюки... Я было подумал, что чувство... Что ее вдруг разобрало чувство. Однако нет. Здесь лишь милая женская забота. Как всё вовремя!.. Слышу ее озабоченно-разумный шепот: «Не спеши. Надо выждать... Пусть уснет крепко». — «Понял». — «Он уснет, и можно уйти. Уйдешь по-людски». (Не выпрыгивая. Не на четыре лапы.)
А теперь и чувство подоспело, и тоже при ней. Или лучше сказать — при нас. Мы опять валимся на постель... Правда, теперь опаска. Осторожность! Мы вдруг не сговариваясь перебираемся с постели на пол. Мы спустились... Мы в зазоре — между окном и постелью. В яме. Здесь на полу (если что) нас не так видно.
Здесь и луна сильнее. Мощнее!.. Я чувствую прилив сил... И первое мое движение (как всегда при луне) — нерешительно-нежное. Я своего первого движения боюсь. Нежен, словно вхожу в воду. Вхожу ночью — в темную воду знакомой реки.
И как выдох на вдох — она отвечает мне сразу же: «А-аах...»
Да и что еще было делать?.. Если мне пути домой нет. Человеку не раствориться во тьме.
А на полу нам совсем неплохо. После постели даже изысканно хорошо. И свежо. Это как бы в чуть прохладной яме — меж опустевшей теперь кроватью и окном. Если пьяноватый Н. все-таки поднимется по лестнице, он нас увидит... Но не сразу.
Вероятно, из той же сомнительной профилактики (и отчасти из-за тесноты) я нахожусь в странной позе: одна нога на полу и полностью принадлежит Лиле, а другая где-то наверху. Нога моя, которая наверху, совсем отдельна. Ее нет. Нога где-то там. Поднята и опирается на край постели. При этом мы трудимся. Мы с Лилей все время в движении... И чем при случае столь странная поза нам поможет? — это вопрос. Чтобы ее мужик, войдя, подумал, что я с одной ногой? и пожалел соперника?.. Но ведь в темноте... И кто сказал, что одноногих не бьют. Если их застанут. Это я уже пошучивал. (Ей нравилось.)
Смеется:
— Зачем ты в такие минуты несешь чушь?
И шепчет ласково:
— Одноруких действительно не бьют, я читала.
Мы вдруг слышим, как он гремит бутылками, доставая холодное пиво. Надо же! Очнулся... Пьет... И что теперь?.. А пиво, пиво! Так вкусно булькало в его проснувшемся горле.
В параллель с этими булькающими звуками и нас разобрало. Я коснулся ее удивительного живота... Пока что рукой. Случайно. Бережно... И все равно обмер. И пиво забыл... И сразу же обвал этих наших вечных микродвижений. Локти... Коленки... Губы... Пальцы... Запястья... Две шеи, две головы — все задвигалось. Тело угадывает тело без сговора. Все соприкасается, ласкается, трется. И совсем без углов, словно спим безотрывно два-три года.
Вот только это, пожалуй, излишне:
— Ах-аах... Ах-аах!.. — Лилино милое, но громкое аханье.
Нас, я думаю, возбудила сама смена обстоятельств — скорый страх и скорая же отмена всякого страха. Я это вполне понимаю. Это неизбежно. Адреналин... Но зачем именно сейчас такой чувственный взлет? Зачем звуки?.. Это лишнее, лишнее!
Лиля Сергеевна уже не мне ахала. И даже не самой себе. Она ахала небесам. (Которые все-таки нас не бросили. Не подвели.) Женщина... Ах-аах. Ах-ааааах!
— Лёльк! — кричит он. — По какой?.. Я же слышу, у тебя там какая-то сексуха.
Я дергаю: «Да откликнись же! Откликнись ему!..» — «А?» Она не соображает. Женщина! Слишком счастлива. «А?» — и тогда я ее за жаркое ухо. За ушко! Еще и еще разок.
— Лёльк! — крик снизу. — По какой смотришь?
— По Рен... По Рен-ти-ви, — кое-как произносит она.
— Нет там ничего по Рен! Это не Рен!.. Я же слышал, у тебя что-то мощное, надо же как!
Восторгаясь, он снова ищет в холодильнике. Двигает бутылки.
— Надо же! Как сладко ахает! А?.. Тебе, Лёльк, там хорошо видно? Какая кнопка?.. Нет, как забирает бабец! Как забирает! Прямо позвонки вяжет!
Грохнул дверцей. Еще пива! Похолодней! Политики нетерпеливы... Судя по поисковым звукам, это уже другой холодильник. Задыхающаяся Лиля Сергеевна (хозяйка!) успевает все же очнуться (я сбавил ритм) и ослабевшим голосом ему крикнуть:
— Ах-аах... Ах-аах... Вино не в холодильнике — вино на шкафу.
— На фиг вино, Лёльк! Хватит! Хватит этого марочного ух-ух-какого испанского вина!.. Я возвращаюсь к водке. Что-то в людях вдруг случилось, Лёльк. Мы возвращаемся к своему народу. Что-то в политнебесах произошло. Все поцентрело.
— Да, да...
— Нет, ты расскажи хоть словами, кого там... Кого так слышно дрючат? Молоденькую? Может, негритянку?
А ей нужна отдышка. В том и опасность, что на пике чувства дыхание Лили переходит в нечто неуправляемое. В нечто скачущее между тишайшим «Пых!» и звенящим «А-ах!». Это уже не отзвук и не эхо сладкой возни. (Которое так нравится нам обоим, когда нас никто не слышит. Так одуряет. Так пьянит.)
— Мне больно! Лёльк!.. Лёльк!
Кающийся Н. ожил внизу не на шутку. Кричит:
— Лёльк! Слышишь!.. Мы ведь приложили руку. Еще как! Если честно... Мы же провели тотальную дегероизацию. У нас нет Истории. Любое событие мы пересчитываем только на трупы. Даже выигранную войну! Сто тысяч трупов! Миллион! Сорок миллионов! Кто больше!.. Каждый трупак становится о десяти головах! Мы превратили Историю в свалку трупов...
Он выждал горестную паузу:
— Конечно, в этом — тоже мы. Лёльк! Крушить так крушить... Похоже, одни мы — такие. Крушить Историю! Крушить Бога! Нам милы только руины!.. Что за люди... Лёльк!
Мы молчим.
— Лёльк! Что теперь-то?.. Что и как теперь? Как нам вернуть чувство Истории?
Молчим.
— Без Истории мы белое пятно.