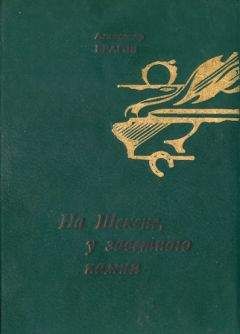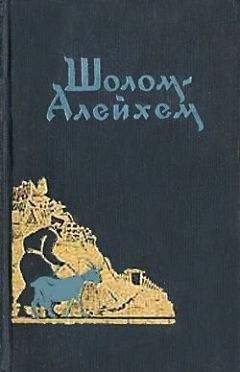В помянутое лето ловкий человек в округе завелся. Ловкий человек у нас — это не тот, который сноровист в ремесле, а который плут, нахал, вор и бесстыжая рожа. По тому молодцу давно разбойный приказ да пытошная изба плакали.
Первый раз плут у Буторы днем побывал. Прежде на Руси после обеда сну предавались. Обычай, что ли, такой был. Гришку Отрепьева, сказывают, за то на Москве еретиком обозвали, что в баню не ходил и после трапезы обеденной в постель не ложился. Мастер спать горазд был. Онисим и Архипка, кабы можно, совсем не просыпались бы. Плуту благодать. Кради. Перетряхнул он избу. Да под лавки не полез. Не догадался. Ни с чем улепетал.
Столяр велел подмастерьям после нежданного гостя на крылечке сидеть, его сон сторожить. Ловкий человек, видно, про дурней-то наслышан. На другой день вновь явился.
Прокрался к крыльцу. Учеников вовсе не боится. Архипка его спрашивает:
— Ты вор?
— Какой я вор? Я — ветер. Гуляю, забот не знаю.
И — за порог. Дурни на крыльце прохлаждаются. Сон сторожат. На сей раз плут и под лавки заглянул. Потыкал в замок гвоздем, сундук открылся. Нагреб пригоршню меди. За пазуху бросил. Поостерегся больше взять. Пусть недоумки, а как заметят? Из избы шагнул. И был таков.
Мастер, как ото сна отошел, вопрошает мальчишек, в сундук не глянул.
— Вора не видали?
Те ему:
— Ветер станет воровать?
— Нет, робята.
— Ветер гулял. Вора не видали.
Столяр посмеялся — и в мастерскую.
Третьего дня ловкий человек говорит:
— Я облако. Порх-порх — и улетело.
Да вновь — горсть. И с крыльца вон.
Мастер пытает:
— Вора не видали?
— Облако станет воровать?
Улыбнулся Бутора, в лес дерево для поделок смотреть полетел. На ногу мастер скор на удивленье.
В то число срок пришел с помощниками за месяц расчет производить. Повечеряли. Квасу хлебнули. Самовар и чай, верите, были как диковинка. По всей Уломе, считать начни, трех пальцев не загнешь.
— Теперь, — гудит мастер, — подставляйте рубахи. Рыжиков накошу. Не поскуплюсь.
Ребята подскочили. Столяр крышку сундука откинул. А там рыжего на детскую ладонь. Мастер смекнул, в чем дело.
— Завтра, — говорит, — расчет произведем. Брысь на полати!
Сам мыслит: "Ты — плут. Да я не гораздо прост. Зверь дорогу знает — придет".
И верно. Вора легкость добычи привлекла. За остатками прибежал.
На крыльцо вспорхнул:
— Я птица. Чир-чирик…
Бутора тут как тут. Повязали они воробья того. Повязали — мастер за деревенскими побежал: птицу показать. Онисиму и Архипке строго-настрого наказал:
— Глаз не сводить! Во двор не пускать!
Парни корпусные, не хлипкие. Не раскидаешь. Ум, правда, весь в тело ушел. Так неповинны: все под судьбой ходим.
Вор тертый попался.
— Пропасть, — думает, — я завсегда успею. Дай словчу.
У него руки спутаны, да ноги не в оковах. Он парнишкам и объясняет:
— Хозяин меня во двор пускать не велел, а про горницу никакого слова не было. Я из сеней-то, пожалуй, в горницу пройду. Здесь сквозит.
— Нельзя, — отвечают. — Сказано, глаз не сводить.
— Вы, — говорит вор, — в горницу пустите. А глазами что, хоть поедом ешьте — дверь отворена.
— Коли так, ладно, — соглашаются дурни.
Он в горенку, к окошку. Он в переплет каблуком. Нырк. И нет его.
Ротозеи следом. Ищут, да не найдут.
Бутора народ привел. А от птицы перышка не осталось. Наши деревенские, понятно, про вора-то выдумкой сочли. В Вахново, видишь ли, до того он не наведывался. В Луковце, слыхали, бывал. Переговариваются, мол, столяр с дурнями сошелся и сам с ума сдвинул. Потолковали, пожалели горемку и разошлись.
Мастера тут ровно подломило. Снял со стены кнут. Задрал рубаху. И на лавку повалился.
— Секите, — говорит, — меня, робята, пока кричать не начну. Заслужил я.
Недоумки, конечно, высекли, не постеснялись.
Поделил им Бутора из сундука поскребышки. К отцу с матерью выпроводил. В камешки играть. То-то по ним забава!
Уже осень в спину дышит. Юрий холодный не за горами. А оброк у мастера не готов. Он ли на работе не убивается. Не знает ни субботы, ни понедельника, всякий день ему среда. Из волос стружка не вычесана, с рукава опилки не отряхнуты. Сам доска доской. Глаза в яму ушли. Но что в час потерял, того минутой не нагонишь. Начнешь дыры латать, тут уж им и счету нет. С Веси Егонской, с ярмарки, половина товара нераспроданной воротилась: мужик либо баба на торгу подойдет, покрутит какую поделку:
— Не та, — вздохнет, — не прежняя. Наспех делана.
От недосыпу Бутора худо видеть стал. Будто все время слеза глаз туманит. За долги, за недоимки "правеж" полагался. Если, конечно, приказчик злого умысла в том не сыщет и дворянину-помещику не отпишет. Отпишет — пытошной избы не миновать. И что за лиходей тот "правеж" выдумал! Бесчестье да мука, ему, видно, в радость были. Должника перед барским теремом прутьями колотили. И нет, чтобы по спине. А то — с тыльной части по голым ногам ниже колен. Да как неделю! Да как месяц! А недоимку все одно — платить надо.
В ночь перед Юрием, словно в масленицу, в прощёный день, мастер все вахновские дворы обошел:
— Простите меня, соседи, за гордость, за форс, за обиду.
Потом, намазавшись тертой редькой — так у нас из себя нечисть выжигают, — баню принял. Свежие порты надел. Снилось мастеру, как его в малолетстве тятька в Белозерье возил. Сон был, что беленый холст, — до того чист.
Дальше как? И предали бы мастера позору. Изголялся бы над ним приказчиков палач. Да мирской сход по-иному решил: в обиду мужика не давать. Внесли за столяра оброк. А вор-то, пёс, с поляками пришел русскую землю воевать. Ему тогда за все и всыпали.