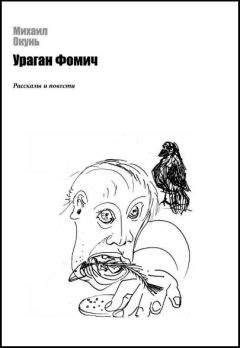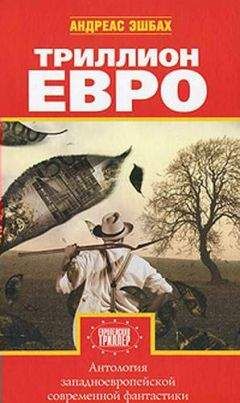— Как подъехать-то? Он какой-то угрюмый.
— А можно и не подъезжать, девушки, просто присаживайтесь.
Они заулыбались, правда, несколько настороженно, и сели за его стол. Заказали, по его совету, того же несчастного бройлера под бамбуком. Он попросил принести бутылку красного вюртембергского «Троллингера» — «вина троллей». Разговор постепенно завязался.
Нашлась в родном городе и общая знакомая — известная в прошлом балетная прима Аннибалова. Ныне она держала собственную небольшую труппу. Он как-то раз побывал на их выступлении на сцене «Театра комедии» («гастроном комедий» — как точно окрестил его один приятель, — за общий вход с Елисеевским). Потом он прошел за кулисы. Вокруг балерин ошивались пожилые иностранцы. Вокруг всех, кроме солистки Дили Саитовой. И не из-за ее престарелого супруга, тершегося поодаль, а из-за того, что даже любители-чужестранцы знали: Диля — креатура Аннибаловой, а потому «не влезай, убьет!» Но он на тот момент этого не ведал и завел с Дилей, с которой уже был знаком, долгую тихую беседу. В ходе нее Диля внезапно, от избытка нахлынувших чувств чмокнула его в щеку. Все это, разумеется, вызвало жгучее неудовольствие Аннибаловой, и дело закончилось неслабым скандальцем. «Я сегодня пострадал оттого, что натурал».
— Да, водится за ней такое, — сказала Таня, а Света согласно покивала. Может быть, на себе испытали приставучее чувство Ганибальши?
Так и тек их разговор. Лишь однажды его понесло, как в старые времена, — хотя тут, естественно, доза была далеко не питерской, да и крепость не та. Может быть, троллям её хватало.
— Вот в России перепись населения прошла, — зачем-то сказала Света.
— Слава Богу, прошла, а то я ночей не спал. Но итогов переписи не знаю. Не знаю итогов переписи населения! Снова бессонные ночи. Опять же, не переписался. А ведь «без меня народ неполный».[4]
Они напряглись, он пожалел о своей бурной тираде. Грустно все это, мальчишество какое-то. Ничего, загладим.
Порции, сделавшие бы честь Гаргантюа, тем не менее заканчивались, как и все на свете. Балерины в еде даже немного опередили его — вероятно, изголодались, бедные. Он кивнул хозяину-китайцу, подошла его миловидная дочка. Он расплатился за всех, что явно обрадовало его новых знакомых. И неожиданно для самого себя без всякого перехода ляпнул: «Девочки, пойдемте ко мне в гости?» И они, не колеблясь, согласились.
Они подошли к его дому, как две капли воды похожему на другие дома в этом городе, и в сотнях прочих городков Германии — трехэтажный, беленький, аккуратненький, с крутыми скатами красной черепичной крыши. Она полностью укрывала квартиру последнего этажа, только окошки выпученными глазенками торчали по обе стороны скатов. Туда им и предстояло подняться.
Его гостьи умилились подсвеченным фаянсовым гномам в микроскопическом палисаднике. Эти фигурки его тоже когда-то умиляли, но со временем их по-дурацки удивленные физиономии стали раздражать. И вообще, кукол надо бояться, как сказала одна ироничная девушка, с которой вместе они когда-то проходили по залам музея этнографии с его фигурами народов мира в натуральную величину. Вот и сейчас ему показалось, что подземные жители запанибратски подмигивают ему. Может быть, выкрали у своих мифологических собратьев и раздавили бутылочку того же «Троллингера»?
По узкой лестнице они поднялись наверх. За стеклянными дверями квартир двух первых этажей ему почудилась затаенная настороженность. Со своими немецкими соседями он только раскланивался при встрече. И то хорошо.
Он открыл дверь:
— Вот, девочки, квартирка, как видите, самая минимальная. Шкаф, почти двуспальная кровать — пришлось принять от предыдущего жильца. Стена на скос. Даже письменный стол еле удалось втиснуть.
— Лучше бы журнальный поставил, — заявила Света (еще в закусочной они перешли на «ты»). — Зачем тебе письменный-то?
— Ну, ясно, зачем — чтобы лбом об него биться. Я ведь того… писатель. А потому устроимся по-нашему, по-ленинградски, — на кухне.
В ярком свете он рассмотрел их подробнее: похожи, как родные сестры, хотя таковыми не являются. Обеим под тридцать или чуть за тридцать, несколько обесцвеченные, лица с резкими носогубными складками, глазные впадины чуть глубже, чем хотелось бы, вены балетных ног натружены. Да, нелегка, видать, житуха дальних лебедей кордебалета! Хотя после вина они заметно оживились. На авансцену вышла Таня:
— И что же ты достанешь из холодильника? Небось, «Ельцина» или «Горбачева»?
— Нет, Танечка, достану водку под названием «Доппель корн». Тридцать шесть градусов, чистая, похмелье не мучит. Кстати, «Ельцин» — водка французская, и хороша она лишь тем, что у нее на горло насажена фирменная стопочка. А «Горбачев» — это совсем не тот Горбачев, а царский генерал-эмигрант. Но и бывший президент СССР сейчас опять здесь — приехал оперировать простату, о чем немцы оповестили мир как о неком выдающемся событии. А что нам его простата? — о своей пора подумать. И между прочим, и «Ельцин» и «Горбачев» тоже до сорока градусов не дотягивают.
— А водка должна быть в сорок градусов!
«Начитанные нынче балерины пошли», — подумал он, а вслух сказал:
— В Германии соблюсти это требование господина Преображенского сложно — не уважают они круглых цифр.
Так питал он их полезными сведениями, а в голове свербело одно: в какой момент заторопятся они в гостиницу?
Выпили, закусили маслинами. Повторили.
— А что там за сердце красное под горой светится?
— Лучше бы ты, Танюшка, не спрашивала. «Эрос-центр», или, попросту говоря, публичный дом. «Эротичные девушки со всего мира с нетерпением ждут вас», как утверждает объявление в местной газете «Швэбише пост». Ждут не дождутся.
— Изволили посещать? И как оно?
— Без комментариев, без комментариев…
«Доппель корн», между тем, тихо скончался. Вслед за ним на свет появился коньяк «Мажестат» в мощной «бомбе» зеленого стекла, «нежный мягкий». В питье, как и в еде, балерины «Петербургского городского балета» себе не отказывали.
— А это что за фрукт-овощ? — Света ткнула пальцем в тарелку. — Похоже на бутафорскую клубнику.
— Это личи — так здесь называется. Какой-то мадагаскарский продукт. — Он взял с тарелки два красноватых пупырчатых шарика, очистил их. — А внутренность по цвету и консистенции, как видите, вылитая загустевшая сперма («вылитая», ха!).
Словцо выскочило, и обе балерины моментально и остро взглянули на него.
— Ну, голубушки, разевайте ротики! — И он забросил беловатые капли в их послушно раскрытые рты.
— Вкусно! — резюмировала Таня. — Только косточка очень большая.
«Мажестат» лихо покатил под эти самые личи. Разговор становился всё более откровенным.
— Что-то ты, Миша, про родной город совсем не расспрашиваешь, — с легкой ехидцей заметила Таня.
— А зачем? Еще начнете его ругать. А у меня золотое правило: о Петербурге либо хорошо, либо ничего — как о покойнике.
— Ладно, — вступила Света. — Вот ты сказал: «писатель». Писал, писал — и до чего дописался?
— Переехал из одного областного центра в другой. Да и вы вроде как не бог весть до чего доплясались.
— Жизнь несправедлива — упс!
— Она и не обещала быть справедливой. Кстати, всего вторую неделю в Дойчланде, а уже понабрались местных словечек: упс, упс, хрю, хрю!
— А почему бы и не понабраться? Замечательная страна. Люди добрые, хорошие, улыбаются, данке шён, бите шён.
— Да все тут, как и везде! Просто бедные стараются не подать виду, что они бедные, а богатые на каждом шагу им об этом не напоминают. И все просто, без надрыва, живут жизнь. Чего и нам желают.
Постепенно загнулся и жизнерадостный пузатый «Мажестат». «И что дальше пьем?» — уже не столь бойко ворочая языком, спросила Таня.
«Ну и ну, — подумал он. — Питерская закалка». Ему вдруг вспомнилось, как однажды на Петроградской два мужика ввели под руки в винный погреб третьего, рычащего: «Рыслингу хочу! Хочу ры-ы-слингу!»
— Пенистый сект! Бите!
— От слова «пенис»?
Приехали!
…В постели они естественным образом оказались втроем. Он потом даже не вспомнил, как это получилось. Просто очнулся и обнаружил себя в сплетении двух напряженных упругих тел.
И была нежность с лицом нежности, и был разврат с лицом смерти. Потому что в какие-то его моменты всегда хочется умереть, умереть…
И последнего было больше. А ему так хотелось, чтобы больше было нежности.
…Они действовали языками, как заядлый бильярдист кием. С той разницей, что их кии то выталкивали шары из горячих влажных луз, то помогали им вновь туда втянуться. И когда подчас оба шара оказывались в разных лузах одновременно, он стонал от приторной тянущей боли, но молил Бога, чтобы длилась она вечно.