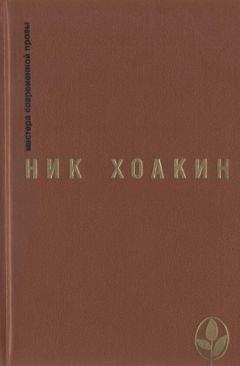Бродя по лесу, сидя на берегу, отдыхая на ложе подле окна, выходившего на бурливые волны, от тщился вернуться к покою затерянного островка и вновь начать поиски постоянства в бесконечном течении времени — дитя своего века, seicento[1], ошеломленный, растерянный (как и многие в этом городе на краю света) и снедаемый метафизической жаждой.
Казалось, лишь только вчера сюда привезли святую купель конкистадоры, но в те времена в Маниле, где старики еще поклонялись языческим божествам, иные уже искали (как и их куда более искушенные братья в Европе) мистических откровений, знали о темной ночи, про которую пишет Хуан де ла Крус[2], и, мечтая о просветлении, с исступленным восторгом божественной муки погружались в тайны души в одиночку — в добровольном затворничестве — и совместно, в стихийно возникавших общинах; полуграмотные и наивные, но отмеченные величием века загадочные существа, они покидали сей праздник жизни в расцвете сил, в зените удачи и удалялись от мира, одержимые страстью постигнуть непреходящее.
Так что архиепископ не был оригинален, сокрывшись в хижине на речном берегу для поисков незыблемого покоя. Но то, что искал он в отрешенных раздумьях и бдениях, по-прежнему ускользало: смутное беспокойство путало мысли и тревога терзала сердце — он все чаще и явственней ощущал чей-то пристальный взгляд, слышал чьи-то шаги.
Его преследовал призрак.
Первое время он лишь смутно воспринимал туманную, затаившуюся поблизости белизну, успевая заметить, нет, скорее почувствовать, хотя день ото дня все ближе и все отчетливей, и вот, наконец, совсем рядом, некое белое облачко, пропадавшее всякий раз, когда он хотел рассмотреть его; оно таяло в зелени листьев, оно ускользало за угол на перекрестке, оно пряталось за колонной в Соборе, когда он, служа мессу, слишком быстро поворачивался от алтаря; потом из белых встревоженных завихрений соткался, хоть и по-прежнему смутный, образ преследователя, чьи извивы он еще долгое время не мог — так ослабли его глаза — составить в единое целое, в человеческую фигуру (ибо не было у преследователя ни головы, ни рук — сплошная цельная белизна), но постепенно облачко обрело человеческие очертания, хоть архиепископ все еще затруднялся сказать, кто это — женщина или мужчина, старик или малый ребенок; наконец из множества встреч, все более частых и долгих, он смог заключить; это женщина, женщина в белом — в белой длинной вуали, что скрывала ее целиком, кроме крохотной ручки, сжимавшей прозрачную ткань у горла; однако теперь незнакомка в белой вуали больше не исчезала, попадаясь ему на глаза, и без смущенья выдерживала его изучающий взгляд — на перекрестке, в Соборе и даже у хижины на речном берегу, как однажды, в лунную ночь, когда, сидя у самой воды, он увидел ее совсем рядом, на камне, белую, безликую и неподвижную, но стоило архиепископу пошевелиться, она будто растаяла в лунном сиянье.
До той минуты он не пытался настигнуть ее, не ведая, кто она — ангел ли, дьявол, а теперь наказал Гаспару караулить в засаде, догадавшись, что это — обыкновенная женщина, хоть и коварнейшая из коварных, потому что, сколько ни ставил Гаспар ловушки таинственной незнакомке, которую будто бы видел хозяин, сколько ни рыскали королевские солдаты по городу, пытаясь напасть на ее след, все было тщетно, никто не знал ничего и не слышал о ней, и даже архиепископ, который и сам уже месяц не видел ее, начал терзаться сомнениями, не пригрезилось ли ему, ибо женщина в белом растворилась бесследно — на сей раз в сиянии дня.
Но вот однажды, принимая жалобщиков у себя во дворце, он взглянул поверх толпы и заметил ее в углу залы, как и прежде закутанную в вуаль, и шепнул Гаспару, чтобы тот выставил стражу. Однако незнакомка не двинулась с места, пока зала не опустела и не ушел последний проситель, — только тогда приблизилась к архиепископу; но, поклонившись, не отвела вуаль от лица.
— Ваше преосвященство, — сказала она, встав на колени, — у меня жалоба.
— И у меня! — в гневе ответил ей он. — Кто ты, о женщина, и почему ходишь за мной по пятам?
— Если мне будет дозволено говорить, Его светлость узнает все, что захочет.
Он приказал продолжать, и женщина поднялась, по-прежнему не открывая лица.
— Ваша светлость, позвольте поведать вам и советникам вашим историю, дабы досточтимые судьи могли рассудить ее по справедливости. Случилось, что некий юноша поклялся в верности девушке, обещав любить ее вечно. Но, уплыв за моря искать счастье, он в чужой стороне попал на затерянный остров, где жила языческая богиня, и влюбился в нее. И она полюбила его. А когда он открылся ей, что уже обручен, то богиня заверила юношу, что в ее власти разорвать узы клятвы и избавить его от обета. Так она и свершила. Они соединились, и юноша не вернулся на родину, к нареченной. Мой господин, справедливо ли это?
— В высшей мере несправедливо, — ответил архиепископ. — Сколь ни могущественна богиня, негоже ей разрывать узы клятвы, не выслушав другой женщины. Ей должно помнить о справедливости Неба и отослать возлюбленного домой, чтоб умолил он свою нареченную возвратить ему слово. А если не возымел он против нее законной обиды, то и не смеет отречься от клятвы, иначе не миновать ему кары Господней.
— Но, Ваша светлость, не превыше ли клятва, данная божеству, слова, данного смертной женщине?
— Сами боги — закон, — ответил архиепископ. — Ежели и они не выдержат искуса вероломства, как тогда спрашивать с человеков? А посему обещание, данное смертному смертным, священно, и да не нарушит его никакая новая клятва — ни богу, ни дьяволу.
— Ваше преосвященство! А что, если юноша тот обманом взял в жены богиню, не открыв своей тайны?
— Тогда он не просто мошенник и лжец, но святотатец, и гореть ему вечно, ему и ему подобным, иначе хаос падет на мир; а первая клятва его нерушима, поклянись он еще хоть две тысячи раз.
Не успел он договорить, как женщина рухнула на колени, вскричав:
— Да будет воистину так!
— Но в чем же, — изумленно спросил архиепископ, — состоит твоя жалоба?
Женщина встала.
— Я рассказала об обманутой девушке, которую юноша клялся любить во веки веков. То была вовсе не притча. Я рассказывала о себе. И теперь пришла сюда заявить права на этого человека и заставить его сдержать свое слово.
Столько горечи, столько страсти было в ее словах, что архиепископ почувствовал сострадание и воспылал гневом к обидчику.
— Кто этот лжец?! — загремел он. — Знаешь ли ты, где он укрылся? Я клянусь, он сдержит слово и выполнит обещание, если ты отыскала его и укажешь, где он.
— Я отыскала его, я знаю, где он, хотя он сменил не только одежды, но имя и даже обличье.
— Можешь ли ты доказать свою правоту?
— Я храню одну вещь — залог его клятвы. Он подарил мне ее у реки, обещав любить меня вечно.
И, подойдя, она протянула ему на ладони кольцо.
Он взглянул на перстень с печаткой, на вензель, — вдруг побледнел и приблизил кольцо к глазам. Архиепископ оторопело смотрел то на женщину, то на кольцо, а она стояла с протянутой рукою, под белой вуалью. Дрожащими пальцами, задыхаясь, он уронил кольцо ей на ладонь и бессильно откинулся в кресле.
В зале поднялся сдержанный ропот, и, спохватившись, прелат повелел советникам удалиться и затворить двери. Они остались вдвоем. Архиепископ вскочил и сошел с возвышения: он дрожал всем телом, женщина же стояла недвижно, как изваянье.
— Кто ты? — в страхе вымолвил он.
Она усмехнулась.
— Не меня ль вы искали повсюду?
— Где ты взяла этот перстень? — упорствовал он.
— Мне подарил его один юноша, на речном берегу. Он стоял предо мной на коленях и говорил: «Этот перстень — залог моей верной любви. Я обещаю любить тебя вечно, во веки веков, и да станет река свидетелем моей клятвы».
— Река? — удивился прелат. — Ты с реки? Откуда?
— С верховьев. Из страны гор и лесов, где река вытекает из озера.
— Край летучих мышей! — вырвалось у него.
— Да, Ваше преосвященство. Они висят гроздьями на деревьях, как перезревшие фрукты, и тучей роятся в небе. Под утро, когда они улетают прочь, их крылья скрежещут в рассветной тиши — и любовники знают, что наступил час разлуки. В этом лесном краю летучие мыши — наперсники всех влюбленных, они — глашатаи ночи, вестники дня; их крылья надежно скрывают тайны свиданий на берегу. Любовники делят ложе, пока летучие мыши не возвестят, что близок рассвет. Сколько влюбленных благословляло и проклинало их! Огромные черные мерзкие твари — но для меня они были сущими ангелами, покровом любви. Ах, сколько раз я твердила об этом любимому, внемля звуку их крыльев… Помнит ли мой господин рассвет на речном берегу?
— Херонима! — выдохнул архиепископ.
Она пошатнулась; гордая голова ее поникла.