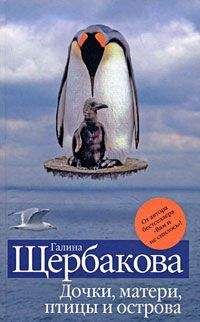— Хоть к черту! — кричал отец. — Но детей (то есть — меня и Надьку) не получишь!
Дело у них шло к разрыву. У отца начался роман с русоволосой пышной красавицей Ольгой, секретарем левобережного райкома. Ольга больше подходила к особняку и ко всему стилю отцовской жизни. А мама, увядшая, истеричная, мало годилась в хозяйки большого индустриального города.
Иногда мы с сестрой ездили к тетке Юдифи. Юдя жила на самой окраине в бедной мазанке. Ничего у нее там не было. Воду из колонки надо было тащить за три квартала, а щелястый сортир был в соседнем дворе, где паслись козы, копошились свиньи и печально отбивалась от мух корова начальника милиции. Шпанистые пацаны с Юдиной улицы не верили, что я дружу с комдивом и могу их привести в казармы, где нам дадут разобрать «максим» и покатают на тачанке. Пацаны, если рядом не было взрослых, дразнили меня «жидом» и вертели ножи у моего носа.
А вот Надьке еврейство не мешало. С Надькой всегда было весело. Она примиряла не только отца с мамой, но и меня со всеми несправедливостями нашей жизни. Скажем, особняк, автомобиль, прислуга, электрические импортные игрушки, что дарили мне в горкоме на октябрьских и майских утренниках… Все это не слишком правильно. У других ребят ни прислуги, ни машины — одно коммунальное жилье. А на утренниках — кульки с липкими подушечками…
— Ну и что, Кутик? — поднимет круглые плечи Надька. — Значит, так надо. Дали и радуйся.
— Но у других…
— Другие столько до революции не страдали. Нашу маму били в полиции.
— Но мама не ездит в паккарде.
— При чем здесь мама? Пойми, если всего у всех будет поровну, никто ни работать, ни учиться не станет. Ты, Кутик, сознательный, а несознательным надо показать, чего добьешься, когда не жалеешь себя и трудишься для народа.
— Но мама…
— Мама с чудинкой.
Так-то мы и жили. Я огорчался, что Пашет водит Машу в детский сад ИТР (инженерно-технических работников) другой дорогой, и радовался, когда она шла со своим дедушкой. Старого доктора Маша всегда тащила к нашему дому.
Однажды, заболев, я настоял, чтобы позвали не горкомовского, а частного врача, моего однофамильца Токаря.
— Та з нього писок сыплетця. Сильский ликар навить краше, — хмыкнул отец, считавший «украинську мову» более народной.
Доктор Токарь обстукивал меня холодными костяными пальцами, а мне было приятно: ведь это Машин дед.
— Впечатлительный он у вас господин, — нахмурился доктор и повернулся не к отцу и маме, а к Юде. — Бромчику попить не мешает.
— Та они, Токари, уси таки, — засмеялся отец. — Мабуть, вы им родына?
— Нет, не родственник, — казалось, оскорбился доктор.
Отец вздрогнул, и мне почудилось — шепнул: «Контра…»
Ночью я плакал, и в мою комнату на цыпочках вбежала Надька.
— Обидели Кутика? Ах, глупый старик. Не знает, что Кутика нельзя обижать. А Кутенька через забор влюбился… Чепуха на постном масле. Как рукой снимет. Еще много у Кутика будет девочек и девушек.
(Милая Надька! Она не знает в своем далеке, что по-прежнему не девочки и девушки, а одна Маша — радость и мученье моей несуразной судьбы…)
…За сестрой приударял молодой стихотворец Юз. Считалось, Юз ходит в особняк ради меня. Я тоже начал рифмовать. Но Надьке нравился другой — москвич, красавец, любимец Сталина и давний приятель мамы. В тридцать шестом году он остановился у нас. Как-то, заглянув в кладовку, куда прятал самодельный лук, я увидел сестру и нашего гостя. Она его обнимала, а он по ней, расстегнутой, водил руками.
Пришла мокрая скользкая осень. Я упал с велосипеда, погнул руль, ушиб колено, и машину раньше времени убрали в чулан. Мама совсем поседела и рядом с отцом выглядела старухой. Они настолько отдалились друг от друга, что даже не ссорились, и в конце ноября отец без нее уехал в Москву принимать конституцию.
Три дня мама молча ходила по дому с черным страшным лицом и вдруг тоже собралась в столицу. А затем началось непонятное. Отец без конца звонил из Москвы; туда умчалась Надька, и в особняк перебралась Юдя.
Перед первым декабрьским выходным выпал снег, и вечером в честь конституции демонстранты несли факелы. Одна колонна прошла по нашей улице, чего прежде не случалось. Я выглянул за ворота, и мне протянули сосновую палку с горящим фитилем.
— Дом сожжешь! — закричала Юдя и тут же заплакала. — Бедненький мой сироткин. Нет у тебя больше мамы. Умерла наша Дора. Из-за Яшки-бандита отравилась угаром…
Мамины похороны запомнились очень четко. Им предшествовала напряженная суета в особняке, бесконечные перебранки Юди с охранником Петей, горничной, кухаркой и дворником. Отец, видимо, решил зарыть маму тихо, не привлекая внимания к обстоятельствам ее смерти. Юдя же настаивала на пышных похоронах. Приоткрывая дверь, я слышал, как тетка жаловалась маминым сослуживцам:
— Нарочно Дору сжег. Хочет, чтобы шито-крыто… Дудки! Дора раньше его в их бранже. Его еще в хедере цукали, а я ей в участок уже кушать носила. Не хочет музыки? Сама найму!
И вот, едва отец выходит из своего вагона, его оглушает траурный марш. Отец растерянно машет музыкантам, чтобы прекратили безобразие, но Юдя кричит:
— Не ты их нанял! Играйте, мальчики! — и, такая крохотная, вырывает у Надьки урну с овальной маминой фотографией.
Оркестранты дудят что есть мочи, а наробразовцы водружают на обмотанные кумачом носилки то, что осталось от мамы, и процессия движется по главному проспекту. Надька и Юдя идут сразу за носилками, а я и отец ползем позади всех в паккарде. Но вдруг, не доехав до еврейского кладбища, отец велит шоферу повернуть домой.
— Ничего, сироткин, ничего… — вечером утешает меня Юдя. — Мы теперь часто будем к маме ходить. От меня к ней близко. А Яшку, — кивает на полуприкрытую дверь кабинета, где отец укладывает желтый саквояж, — с собой не возьмем… Застеснялся, негодяй, что я Дору похоронила со своими… Так пусть его, босяка, с чужими кладут!
И напророчила. Утром отец отбыл на совещание в Киев, где его арестовали, а через два дня нас выгнали из особняка и даже не позволили взять вещи.
Впрочем, Юдя кое-что мамино давно перетащила в мазанку. Умудрилась даже уволочь туда японский велосипед. (Весной, стыдясь и ликуя, его купили для Маши старики Токари.)
В Юдиной мазанке не повернешься. Мне на ночь ставят «дачку» (складные козлы с мешковиной), а сестра и тетка спят на кровати валетом.
— Изверги, — вздыхает Юдя. — Сами своих мучают. Хуже петлюровцев. Ну, ничего… Не плачь, сироткин. Я тебя никуда не отдам. Руки есть, ноги есть, и Наденька теперь помощница…
Тетка никак не успокоится, что русская и украинская газеты, а также местное радио, заклеймили отца разложившимся, запутавшимся в сетях польской дефензивы врагом партии и народа.
— И Дору уморил, изверг… — добавляет Юдя, но тут же смолкает, потому что официально виновной в смерти мамы признана печная заслонка, и я могу отвечать всем и каждому: мол, отец отцом, а мама умерла честной большевичкой.
— Мерзавец! Шиксу, комсомолочку захотел!.. Так Юдя называет Ольгу, хотя та до своего недавнего ареста заправляла целым районом.
— Покажут ему комсомолочку!.. А вы, детки, не бойтесь. Вы — Токари. Ты, сироткин, не выдумывай. Ты — Токарь и Яшкину кацапскую кличку забудь.
Юдя переводит меня из прежней школы в окраинную, где учиться можно спустя рукава, и я запоем читаю «Мушкетеров» с продолжениями, «Парижские тайны» и Вальтера Скотта, словом, все, что отвлекает меня от нашей горестной действительности.
Будто по злобному волшебству, особняк превратился в тесную комнатушку, где с утра до вечера стучала ножная машина, галдели заказчицы и повсюду, отнимая у женственности тайну, громоздились необъятные панталоны, пояса и бюстгальтеры. Все переменилось — только не Надька! Надька обрывала зарвавшихся клиенток и не шикала на пацанов, когда подглядывали в сортир. («Ладно уж, глядите, малахольные, если интересно!..») И смеялась, когда ночью Юдя толкала ее горбом. И по-прежнему отказывала Юзу, который, презрев страх, героически ухаживал за дочерью врага народа.
(Как мне не хватает Надьки и как презираю себя за то, что не пишу ей писем, хотя меня все равно не печатают!..)
Пятилетие на окраине оказалось сложным периодом жизни. Запомнился неприятный эпизод.
Весной за городом, позади еврейского кладбища, красноармейцы разбили палатки, и мимо нашей мазанки, разбрызгивая грязь, часто проскакивал автомобиль комдива.
— Эй, жиденок! — однажды крикнули мне пацаны. — Твой «даешь пулеметы»[1] катит! Познакомь!
Я обреченно вылез на улицу и, понукаемый шпаной, закричал:
— Дядя Август! Здравствуйте, дядя Август!
Форд, объезжая широкую синюю лужу, медленно надвигался на меня. Брезентовый верх был откинут, и суровый комдив сидел неподвижно, как перед фотокамерой.