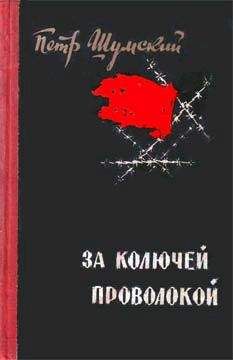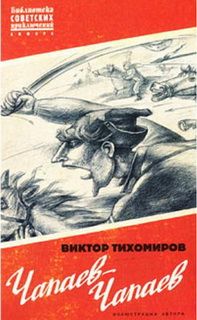Лишь только мои повести увидели свет, критики – люди из массы, «воспитавшейся» на «Чапаеве», на «Потёмкине» и Гайдаре, уведомили меня: «Эпоха гражданской войны слишком испахана и перепахана нашей литературой, чтобы сказать о ней своё слово». Мне объясняли, что идея моих повестей «уж слишком банальна», «уж слишком она лежит на поверхности!»
Ну и какова же она – идея, которую мне приписывают? Это не что иное, как действительно банальная, примитивная мысль: «Красные – плохие! Белые – хорошие!» Белые витязи, благородные и чистые, свято верны заповеди «Береги честь смолоду!» Это-де прекрасно – но ведь было-было-было. (Имелось в виду то, что издавалось эмигрантами, что вышло в свет в так называемую «перестройку»).
Верно, в свет оно вышло. Оно теперь уже было. Как было, в первую очередь, и прямо противоположное. И именно потому, что и то, и другое было-было-было – умы несокрушимо заморозил шаблон.
Шаблон не даёт читающему вникнуть в смысл – и по этой причине мне «шьют» шаблонную, пошлую «идею».
Тогда как надо просто читать – читать, что рассказано, к примеру, о Шерапенкове. До того, как пойти с белыми, Шерапенков тайком побежал к красным и своим доносом погубил командира белых разведчиков. Герой другой повести, Ромеев, был тайным агентом охранки, стал шпионом чешской контрразведки, а затем – бандитом.
Может, более похож на витязя Костарев? О себе он заявляет: «Я – чёрный». Надев личину красного комиссара, он собирается победить большевиков чудовищной ложью и кровопролитием.
А Ноговицын? Служа в колчаковской контрразведке, он пытал и убивал, а в тридцатые годы посылает клеветнические доносы в НКВД…
Так где тут, собственно, белая идея?..
Если всё-таки говорить об идее, то она в том – насколько интересен, насколько симпатичен в своей гордости одиночка-индивидуалист, тот, к кому можно отнести слова философа: его «душа родственна пальме и привыкла жить и блуждать среди больших прекрасных одиноких хищных зверей».
Революция с её глобальными, с её классовыми столкновениями не поднимается над простыми, в сущности, вопросами и оказывается безотрадно-примитивной для индивидуалистов с их тонким душевным строением, с их глубоко сложным внутренним миром. Проблемы этих загадочных людей таковы, что их не решат социальные перевороты. Эти одиночки по самой сути чужды не только красным, но и белым, они своего рода «горбатые» для всякого нормального человека: для него дика их способность к нежным чувствам.
Как понять, например, того же Костарева, который со смакованием рассуждал об ожидаемых реках крови, едва хладнокровно не застрелил своего собеседника (отложил на завтра), а затем пошёл под расстрел, чтобы спасти этого человека и его семью?
Грандиозный план, которым он был буквально одержим, и свою жизнь Костарев принёс в жертву «банальной», по его словам, благодарности.
Подобные личности непривычны.
Читатель достаточно знает о тех, кто, встав в революции на ту или иную сторону, беззаветно сражался за «общее дело». Немало читано и о людях, которые мучительно метались в поисках «правды». Довольно написано и про таких, кто, оказавшись на той или иной стороне, корыстно приспосабливался.
По воспоминаниям отца мне представилось совершенно иное: увиделись одиночки, которые не приспосабливаются, «правды» не ищут. У каждого из них она собственная, трепетно-интимная. С «общим делом» эти неисправимые индивидуалисты не сливаются. Они пошли в революционную борьбу по сугубо личным, «странным» мотивам, которые скрыты от окружающих. Они чувствуют свою исключительность, эти «тронутые», они прячут и свои страдания, и то неповторимо-светлое, чем щедро наделены. Своего индивидуального не уступят ни грана и перед лицом смерти.
Их гордость – качество редчайшее: и разве же оно не восхитительно?..
Будучи христианином, я считаю, что в Священном Писании осуждение гордости относится на самом деле к себялюбию, к спеси, к чванству, к тщеславию, а не к гордости в её истинном смысле. Я ни в коем случае не противопоставляю гордость смирению, но, напротив, убеждён, что смириться перед слабым способен только гордый человек.
Трусы же, пасуя перед силой противника, выдают трусость за «христианское смирение». И потому, когда мне заявляют, что я воспеваю «проходимцев», а не людей, преданных высоконравственным идеалам, и приводят в пример известных литературных героев, я задаюсь вопросом: кому труднее быть бесстрашным – подобному человеку или идеалисту-одиночке? Напомню, что те, о ком я пишу, – глубокие идеалисты, почему и остаются они, при всём их греховном индивидуализме, Божьими людьми. Они идут к покаянию, к искуплению.
Ради них написаны повести, а не чтобы сказать: победи белые – какая-де замечательная была бы жизнь. Уверен: белые не могли и не должны были победить. И не вопрос революции интересен, исконный и простейший: почему одни объедаются телятиной, а другим не хватает хлеба? Об этом писали, писали, пишут и будут писать…
Но когда заговорят о революции для «горбатых»?
Звать к разговору о них, защищать индивидуализм, восхищаться индивидуалистами – моё кредо, суть натуры. Yo me sucedo a mi mismo1.
1
Я следую самому себе (исп.).