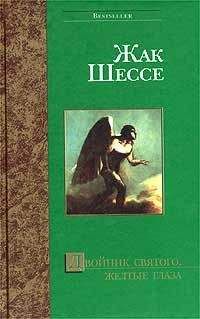Начинается новый краткий период в жизни лечебницы: каждая минута наполнена особым счастьем бытия. Состояние моего соседа ухудшается, его жена не оставляет его ни на минуту, несколько раз привелось видеть мне Бландину выходящей из его комнаты и всегда в маске. Мне ясно, что она ведет его к смертному одру, используя угрозу и страх и околдовывая. А молчит он потому, что напичкан наркотиками. Это настолько очевидно, что я тоже испытываю нечто вроде завороженности, словно угодил в клейкое месиво и никак из него не выберусь.
Однажды во второй половине дня я отправляюсь прогуляться в рощу на холме, воздух свеж, освещение не резкое, и вдруг… у входа в небольшой грот среди лиственниц замечаю ту самую маску. Она! Какой сегодня день? Четверг. То есть накануне. Бландина стоит неподвижно, опираясь на замшелый камень; она не удостаивает меня взглядом, я сам подхожу и заговариваю с ней.
– Мы одни, – как можно спокойнее говорю я. – Здравствуйте, Бландина. Пройдемся?
– Я устала. Я заметила, что вызываю у вас интерес. Ваш сосед? Вы хотите знать, как это происходит?
– Уверяю вас, что предпочитаю покой. Воздух. Пение птиц…
– Не отрицайте, – обрывает она меня на полуслове. – Вы приняли меня за безумную. Сперва должна вам кое-что сообщить. Я внесла коррективы в завтрашний день. Господин Жако с поваром собирались угощать всех говяжьими антрекотами. Говяжьи антрекоты – и это в день страстей Христовых! Ну уж нет! Черный хлеб и вода. Вино отменено. Побольше благопристойности в этот день.
– А приговоренный? Ну… сосед.
– Ваш сосед чувствует себя как никогда хорошо. За две недели я вытащила его с того света. Вы увидите его сегодня за ужином.
– А маска? А этот маскарад?
– Доктор Ирене настоял. Он больной человек, настоящий сумасшедший. Жако только что расторг с ним контракт. Он принуждал меня носить это, навещать больных по ночам, следовал по пятам, грозя выгнать. Сегодня, чтобы отметить его уход из клиники, он потребовал от меня напялить все это и явиться сюда.
Мы вместе возвращаемся в пансион, молча, не глядя друг на друга, я слышу ее ровное дыхание, ей легче, чем мне, карабкаться по крутым дорожкам.
Назавтра, в Страстную пятницу, день начинается молитвой, которую г-н Жако самолично произносит в холле в присутствии всех больных и медперсонала. Я снова отмечаю про себя, что у Жако с его бородой и очками вид человека свободной профессии. Это заведение и он явно диссонируют. Засим следует богослужение, а уж потом завтрак, скудный как никогда, потом все занимаются кто чем, потому как сегодня отменены все процедуры; в половине первого обед: черный хлеб, немного сыра и вода. Приглашен пастор. Благословив пищу, он садится за стол г-на Жако. «Ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскресший из мертвых, уже не умирает: смерть уже не имеет над ним власти»[1].
Г-жа Бландина сидит на самом видном месте: она не ест, ее лицо покрыто бледностью. Когда все встают из-за стола, она наклоняется ко мне и шепчет: «Христос умер в три часа». Я не сразу понимаю, что она имеет в виду. И только когда ее находят в ее каморке на последнем этаже с лицом, посиневшим от цианистого калия, до меня доходит смысл ее слов. А до тех пор пройдет еще вся вторая половина дня, Жако запрет гостиную, постояльцы разойдутся по своим комнатам, персонал весь куда-то попрячется, пастор спустится в Монтрё. Мне одному будет не до послеобеденного отдыха, я пойду гулять под лиственницами, но когда небо, как и каждый день во второй половине, затянет тучами, я вернусь, устроюсь на веранде и стану любоваться пейзажем.
Послание к Римлянам св. апостола Павла, 6:7-9.