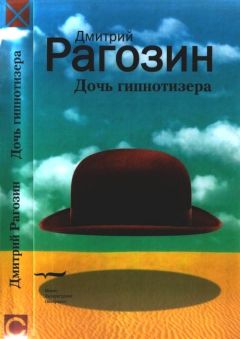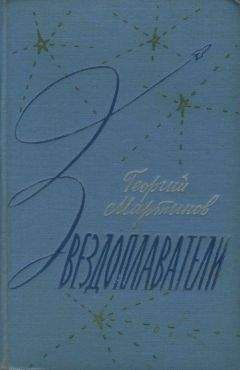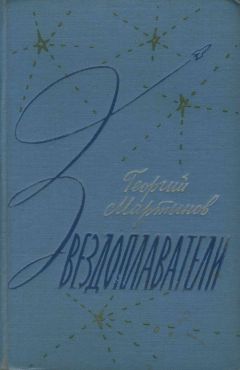К тому же, чем дольше кипит битва, тем меньше военачальников, они остаются в прошлой жизни, на биваке, высокие, стройные, надменные. Там они просиживают бессонные ночи над картами будущих сражений. Они обдумывают маневры, загодя высчитывая потери. Их тонкие, благородные лица приводят в смущение нас, грязных, голодных, оборванных, насилу оторвавшихся от обозных грудей. Мы виноваты, что стройная в идее битва неминуемо скатывается в безобразное побоище. Мы всё в конечном итоге делаем по–своему, до нас не доходят приказы. У нас нет профиля, наши морды расквашены, и язык заплетается.
Гулко ухает канонада, то там, то здесь поднимаются бурые фонтаны грязи, падают комья с вьющимися лиловыми червями. Время, как противник, никак не хочет идти на попятную. Тщетно память, вооруженная до зубов, пытается восстановить в первозданной яркости то, что вылиняло за давностью лет. Но по законам военного быта невыразимое в словах подлежит уничтожению. Двоим, как говорится, не уснуть в холодной постели.
Набегавшись, наглотавшись горького дыма, растратив впустую весь свой боезапас, я спустился в окоп, прорытый накануне скорее от безделья, чем из предусмотрительности. Слева от меня блажил неподражаемый Вася Мухин, веселый забияка в пышных усах. Он был пьян в стельку и, пуча красные глаза, рыча, строчил из пулемета. Когда кончалась лента, он всякий раз порывался выскочить из окопа, карабкался на осыпающийся скат, его насилу стаскивали вниз. Справа, сжавшись в комок, трясся от страха Яша Безухов. Ему уже перевалило за сорок, но он оставался малым дитятей. Каждый день ему приносили письма из дома прямо сюда, в поле. Он читал, размазывая слезы по широкому лицу. Высокий, сутулый, неряшливый, нечистоплотный, он даже летом, в жару, мерз и кутал горло шарфом. Чаще всего он сидел в уголку и, чему–то улыбаясь, рассматривал ладони. На стрельбах он ни разу не попал по мишени, хотя целился всегда с большим усердием.
Впрочем, и я постоянно промахиваюсь. Не было еще такого человека, которого я бы сразил с первого раза. Расстояние тут безразлично. Даже негодяй, в которого я стреляю в упор, как правило, остается невредим. Машет руками, пританцовывает.
Вскоре бедному Яше осколком прошибло лоб, его унесли, а освободившееся место поспешил занять Андрей Румянцев. Его у нас в полку не любили. Он был добровольцем, из идейных, прямо со студенческой скамьи. Едва появившись в казарме, начал отращивать бороду. После занятий на плацу приставал ко всем со своими проповедями. Настоящий патриот, он с фактами на руках доказывал, что все известные истории битвы оканчивались нашей победой, и даже те, в которых мы по каким–то причинам не смогли принять участия. Однажды к нам в часть приехал его отец, щуплый старичок с бакенбардами и грустными рыбьими глазами, по всему видно, сановник, уговаривал непутевого вернуться домой, обещал достать свидетельство о слабоумии, но тот ни в какую: «Мое место здесь! — кричит. — На передовой!»
В бою выяснилось, что он и впрямь отменный рубака. Никогда еще не видел я подобной жестокости, со смаком протыкал он штыком набегающих пехотинцев. Пуля–дура догнала его, когда он потрошил очередного захватчика. Пришлось мне волочить его, бормочущего: «Ни шагу назад!», в санчасть, и только затем, чтобы услышать равнодушное: «Трупы не принимаем».
Одна медсестра — я должен о ней сказать хотя бы несколько слов, ударная волна потом вывернула ее наизнанку. От нее осталось мокрое место. У нее были серые глаза в черных ресницах, волосы выбивались из–под холщовой косынки, руки в резиновых зеленых перчатках, на фартуке пятна крови (только что помогала зашивать живот ординарцу — вдевала нитку в иголку). Как она посмотрела на меня! Я превратился в цветущий куст жасмина. Этот запах не выветривается. Я и раньше ее встречал, среди коек, под пологом, но никак не отличал от прочих женщин, ради которых пальцем лень пошевелить. А тут вдруг что–то на меня нашло, между мясорубкой и оперным театром, стрела стремительного счастья… Конечно, отойдя от палатки с ранеными, ринувшись опрометью в бой, я забыл и серые глаза, и черные ресницы, другие картины встали на моем пути, но потом, пережив себя, пробравшись в тыл, я то и дело встречал этот взгляд, идущий откуда–то сверху, сквозь моросящий дождь, осенью, в пустынном городском саду: «Хочу…»
Удивительно, как много женского пола на поле боя. Доходит до неприличия. Вот только видимость оставляет желать лучшего. Ничего не попишешь, из смешения тел косяком лезет то, что застит свет. Одна забота — не взвыть, не разрыдаться.
Слухи самые нелепые в этом смутном противоборстве расходятся с невероятной быстротой. Сказанное в шутку на краю битвы повторяют через пять минут на передовой с суеверным ужасом. Кто–то видел слепого юношу, играющего на флейте. Кому–то встретилась у реки корова с двумя головами. Шепотом передают рассказы о людях в красных колпаках, о говорящих птицах, о стеклянных змеях. Передают друг другу на ухо, не прерывая резни. Когда твоя рука посылает на тот свет незнакомца, поверишь во что угодно. Химеры наполняют душу мрачной решимостью. Зубы скрежещут, кости трещат. Бьешь напропалую. Весь исходишь отравленными стрелами.
Но иногда кажется, что ударяешься лбом о стену, расписанную залихватски батальными кровоподтеками. Краска осыпается, сквозь пятна сырости и плесени проступает кладка. За окном уже покашливают ранние осенние сумерки. Старый слуга, шаркая, проносит подсвечник с тремя свечами. Моя тень поднимается и опускается. Лоб гудит.
И вот мы опять наступаем стройными рядами. Безрадостный натиск, бег переходит в крик. Со всех сторон сыплются тумаки. Нас избивают невидимые полчища. Неужто правда на той стороне? Мы покрываемся ранами, мы истекаем кровью, мы падаем, лежим, тяжело хрипя, мы лежим бездыханно.
Улучив минуту, я сполз бочком по скользкой размытой глине в узкий овражек и зачерпнул ладонью из ручья, вода оказалась необыкновенно чистой, холодной, вкусной. Дождь накрапывал с тихой монотонностью, как ни в чем не бывало. Вдруг слышу за спиной визгливый окрик: «А вы что здесь прохлаждаетесь?» Повернулся, вижу вверху офицера в темных очках и под зонтиком. «Марш обратно! Какой ваш номер?» — он раскрыл блокнот, придерживая зонтик под мышкой. Он, должно быть, решил, что я собираюсь раньше времени удрать с поля боя, хотя я еще об этом и не помышлял, а думал передохнуть, набраться сил для новых подвигов. Никогда раньше, на учениях, на марше, в казарме, я не видел это оливковое лицо с желваками, стиснутые губы, уши нетопыря… Такого не забудешь вовек. Схватив ружьецо, путаясь в полах промокшей шинели, я выбрался из укрытия и рванул навстречу свистящим пулям. Кажется, все это не слишком занимательно…
— Нет, нет, продолжайте!
На этот раз меня ненадолго хватило. Я отстал от орущей оравы и, без единого желания, пошел бродить по бездействующим пустошам в обход кровопролития. Первый, кого я встретил, был наш связист Перепелкин. Желтый чуб щегольски торчал из–под маленькой фуражки. Его тонкая, изящная фигурка была перетянута ремнями, гимнастерка на груди слегка приподымалась, и что–то девичье выступало на румяном личике, уж не подводит ли шельмец глаза, не подкрашивает ли губы? Любимчик высшего командования, он заслужил своим легким поведением столько наград, сколько нам, доходягам, и не снилось. Но никто не был на него в обиде. Даже низшие чины его не гнушались, напротив, баловали, ценили, одаривали. Несмотря на своих высоких покровителей, он не задавался, был услужлив со всеми. Каждый из нас был обязан ему какой–нибудь приятной мелочью. Находились и такие, которые считали его полубогом. Даже умирающего он мог воодушевить. Он и сейчас, когда все летело в тартарары, сохранял кокетливое обаяние. Предложил мне баночку с леденцами. Я рассказал ему о том, что видел и слышал. Он выслушал, улыбаясь. Происходящее здесь, на поле боя, его забавляло, он не воспринимал всерьез огонь, взрывы, дым. Бесполезно было жаловаться ему на пороки сражения, он не понимал.
Отойдя от него на несколько шагов, я поспешил выплюнуть сладкую липкую гадость. Я не мог на связного сердиться. Я бы скорее испытал досаду, если бы он проявил интерес к нашим мрачным потехам. Пусть себе проказничает, мы–то знаем свое дело.
Я спешил вернуться туда, где режут, жгут и насилуют. Полчища насекомых застили взор. В сапоги набился песок. Солнце, слепящее, горячее, облезлое, выбралось из сизой пелены. Утирая пот, понукая зудящее от темени до пят тело, я вдруг заметил на пригорке лежащую навзничь тучную белую тушу. Воры, которых на поле боя хватает, унесли одежду. Глаза закатились, волосатые ноздри жадно, со свистом вбирали воздух. Я не сразу разглядел у него на боку маленькую ранку, из которой тонкой дугой сочилась бурая водица. Между тем, казалось, что все его жизненные силы ушли в чудовищно вздыбленный член. Губы медленно шевелились, лепя слова. Я расслышал только «письмо, письмо…» В руке он сжимал конверт. Я с трудом разжал его пальцы с желтыми грязными ногтями, поднес конверт к близоруким глазам и — Боже милостивый! — прочитал адрес, по которому я отправил караван писем. Как странно было видеть чужим мерзким почерком выведенное драгоценное «Маше Трегубовой в собственные руки»… Не помня себя, я схватил его за толстую скользкую шею, но, увы, поздно, он уже утратил то, что ему не принадлежало и что я так хотел у него отнять.