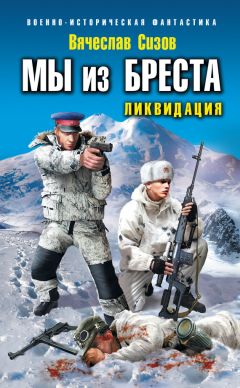Властям предержащим эти модные веянья страсть как не понравились, точно они в них учуяли пролог к угасанию веры отцов и дедов, и тогдашние газеты согласно окрысились на юнцов, которые не разделяли идеи униформы и нищеты. Словом, крушение империи, как это ни странно, наметилось задолго до смерти «трех толстяков»[3], ушедших один за другим по манию Указующего Перста, а именно в ту пору, когда на брюки-«дудочки» перешли нынешние управленцы, магнаты и беглецы.
Как все же переменчива жизнь в России. Кажется, еще вчера мы, красногалстучники, делали ручкой перед портретом всемогущего грузина, а сегодня опасаемся выйти из дому по вечерам; неизменными из века в век у нас остаются только казнокрадство и дураки.
Вот бальный веер, доставшийся мне от бабки, костяной, инкрустированный перламутром, с петелькой для руки из шелкового шнура. Вообще мой род из простых, а прабабка по матери даже была черносошенная[4] крестьянка Серпуховского уезда Московской губернии, но однако же ухитрилась дать своей дочери приличное образование, и моя бабка выглядит на пожелтевшей фотографии совершенно барыней в длинной юбке строгого покроя, в блузке, видимо, из батиста, с часиками на длинной цепочке, носившимися на манер медальона, и в шляпке с пером, сдвинутой несколько набекрень.
Воображаю ее на балу… Нет, сначала вот о чем: это все выдумки, что в сословной России простой народ только водочкой занимался и день-деньской трудился на капитал. При последнем Романове в больших городах пооткрывались Народные дома для фабричных, извозчиков, белошвеек и прочей урбанизированной бедноты, где давали оперу и певал сам Шаляпин, в царские дни простонародью устраивались балы, даже и по окраинам обеих столиц и в совсем незначительных городах; как нигде в Европе, существовали бесплатные библиотеки, и книги стоили гроши благодаря почину Ивана Сытина, а мой родной дед, обыкновенный московский обыватель из дмитровских крестьян, по праздникам ходил во фраке и фетровом «котелке».
Так вот, воображаю мою бабку на балу: танцевальная зала, освещенная тремя хрустальными люстрами с настоящими восковыми свечами, как в церкви, музыканты, засевшие на антресолях, настраивают инструменты, публика в праздничном платье, и моя юная бабка со своим костяным веером в руках, посредством которого, между прочим, пока то да се, барышни объяснялись с кавалерами на специальном, так сказать, веерном языке; сделает веером так — «вы коварный обманщик», сделает сяк — «ваше красноречие сводит меня с ума». Тем временем распорядитель танцев, совершенно особенная фигура с огромным белым бантом на груди, носится как угорелый, потирая при этом руки, и вдруг как заорет:
— Monsieurs, engagez vos dames![5]
Тотчас молодые люди подлетают к барышням согласно расписанию, заранее начертанному на целлулоидном манжете химическим карандашом, и «пошла писать губерния», как язвил Павел Иванович Чичиков, который, как известно, сроду не танцевал.
Первым номером всегда «польский», это либо:
Александр, Елизавета,
Восхищаете вы нас…
или:
Гром победы раздавайся,
Веселися, храбрый росс…
Танцоры берутся за руки и парами, плавно, легко, движутся друг за другом, акцентируя шаг правой ноги, а музыка плывет под потолком, производя в публике сдержанное ликованье и приятную немоту. Моя бабка в четвертой паре, торжественно-бледная от волнения, об руку с «белоподкладочником»[6], вот-вот свежим выпускником медицинского факультета, который метит в кандидаты[7], состоит в партии социалистов-революционеров и пьет исключительно хлебный квас.
Любопытно, что история танца, равно как история вещей, до удивительного иллюстративна к обратной эволюции человека от мыслящего и духовного существа до примата, умеющего говорить и передвигаться на двух ногах. Во всяком случае, танец еще недавно был формой общения между полами посредством пластического искусства, а нынешний юнец, не сказать — танцует, а скорее, как зулусский шаман, бесится сам с собой.
А вот книга 1802 года издания, напечатанная на голубоватой бумаге, плотной и грубой, как оберточная, в кожаном переплете, с золоченым обрезом и библиотечным штампом на титульном листе, который естественным образом стерся за двести лет. Это — «Полидор, сын Кадма и Гармонии» сочинения Михаила Хераскова, некогда знаменитого версификатора и прозаика, прославившегося еще в царствование императрицы Елизаветы; он дрался на кулачках с поэтом Сумароковым, площадно ругал Ломоносова, был замечен во многих неблаговидных поступках и, в конце концов, упокоился на кладбище Донского монастыря.
Его могильный камень ознаменован такой эпитафией:
Здесь прах Хераскова. Несчастная супруга
Чувствительной слезой приносит дань ему…
— как дальше, не разобрать.
Человек ушел еще до нашествия «двунадесяти языцев» под началом Наполеона, уже поди и косточек его не осталось, как от Гоголя[8], а камень с эпитафией все стоит, и книги его живут, хотя это чтение неблагодарное и от него впадет в катарсис разве что узкий специалист. Вот наугад открываю роман на 33-й странице и читаю, надев очки:
«Долгое время надлежало бы пробыть Полидору в скитаниях, если бы хотел он внимательно рассматривать всю предлежащую его любопытству тайну, которая благоденствию царства Мавританского споспешествует; но царь Фивский, как благорассудный юноша, обращал свое внимание токмо на изящественнейшее в его путешествии — на человеколюбивые нравы, на нравы общему благу толико потребные, и наблюдение коих иногда в небрежении оставляют; а сие послабление не редко гибель государствам приключает; ибо ни науки, ни художества, ни слава, ни изобилие блаженства народу не доставят, когда пороки в царстве укоренятся и развраты обузданы не бывают…»
Первое, что приходит на ум: художественная литература со временем становится все более совершенной, то есть все более и более превышающей возможности обыкновенного человека, и настоятельно требует от читателя хорошего вкуса и взыскующего ума.
Второе, что приходит на ум: по историческим меркам, совсем недавно писатель считал свою миссию совершенно исполненной, если ему удавалось изобразить типичного современника или быт городских низов, на что, в сущности, способен почти каждый культурный человек, располагающий досугом и, главное, имеющий острый глаз. Но со временем, в силу неясных пока особенностей человеческой природы, изящная словесность забирается в такие дебри сознания, так скрупулезно разбирает по винтикам механизмы общественного и личного бытия, что литературный труд становится достоянием считанных единиц; эти ненормальные обыкновенно бывают отмечены неким божественным недугом, вроде падучей, сопровождаемой просветлениями, которой страдали Достоевский и Магомет. Таким образом, литература ХVIII столетия — это сравнительно баловство. Даже Пушкина, первенца «золотого века», сочинившего, в частности, изящные анекдоты под вывеской «Повести Белкина», так и не осенило, как в прозе делается нечто из ничего.
Но какова же была моя оторопь, когда я обнаружил в томе Хераскова, между 164-й и 165-й страницами, раздавленного клопа. Останкам, возможно, было лет двести с лишком, и бедная тварь пала под чьим-то безымянным пальцем еще в первые годы царствования Александра Благословенного, когда эти зловредные насекомые безнаказанно населяли и хижины, и дворцы. Особенно иностранцы жаловались, что от «краснокожих» по русским гостиницам нет житья.
Исчезли клопы только в середине ХХ века, и я сам отлично помню, как школьником безрезультатно травил их керосином и от отчаянья подставлял под ножки своей кровати жестяные банки, наполненные водой. (Вода была для этих кровососущих непреодолимой преградой, но тогда они навострились десантироваться с потолка.)
Так вот, даже от древлероссийского клопа осталось пятно ржавого цвета, наводящее на исторические реминисценции, и от зачинателей национальной литературы остаются плохие книги, которые, несмотря ни на что, возбуждают мысль. А от большинства русских людей, век живущих на положении смертников, ничего не остается, кроме старого пальто и пары стоптанных башмаков. Но пальто пустят на ветошь, башмаки выкинут на помойку, и тогда уже ничего не останется, ни синь-пороху, потому что у нас не любят валандаться с барахлом; Россия все-таки не Шотландия, где в каждой приличной семье хранится как зеница ока, скажем, прапрадедушкино копье. Оттого-то у нас до сих пор не умеют улицы подметать.
В детстве и отрочестве я почему-то подозревал, что до меня не было ничего. Что, то есть, до моего появления на свет Божий не было ни Крестовых походов, ни Ивана Грозного, ни энциклопедистов (я уже тогда читал Вольтера и Монтескье), ни сражения при Бородине, ни коллективизации, а все эти злоключения выдумали взрослые, чтобы было за что получать двойки и вообще интересней жить. Ничто не могло сбить меня с того пункта, что история человечества началась в день моего рождения, а мать с отцом, россказни, учебники, музейные экспонаты — это все для отвода глаз.