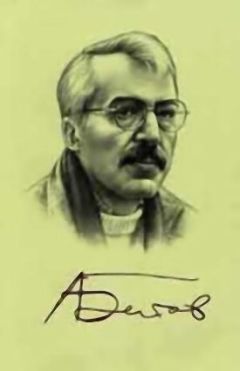(В этот момент я опять взглянул на сибирские просторы Германии, одновременно почему-то проверяя, на месте ли крест… он был не на месте. Но я нашел его, порывшись и не успев потерять…
Порвалась цепка на кресте:
Грех тянет вниз, а выя — крепче.
Живу, наглея в простоте,
Все воровство до дна исчерпав.
Пропиться можно до креста,
Продаться можно за поллитра.
Где темнота, где простота,
Вопрос не выучки, а ритма.
Итога нет — таков итог.
Не подбирай креста другого:
Без Бога — Бог, и с Богом — Бог,
И ты — за пазухой у Бога.)
24 ноября, уже в Гамбурге.
По той же причине нет русского детектива.
Литература, осуществленная в жизни, вытесняет воображение и игру как неправду жизни. Герой и сюжет — акт обуздания жизни, после которого и следует понятие цивилизации. (Запись во время обсуждения кандидатов на Пушкинскую премию, присуждаемую русским писателям почему-то в Германии, а не в России. Победителями вышли два героя советской литературы, создавших-таки героя, отличного от традиции отечественной литературы, — Фазиль Искандер и Олег Волков. Один гибридизировал Дон Кихота и Швейка, другой — лагерного Робинзона.)
Мы не замечаем, как это сделано, а это еще и сделано. Нам не демонстрируются приемы, и мы не говорим «ах!», ибо не можем щегольнуть своей причастностью: как мы это все, такое сложное, догадались и поняли. Может ли кто-либо похвастаться, что он понял Дюма? Что там понимать, в «Трех мушкетерах»…
Поэзия — это тайна, а занимательность — лишь секрет. Эта дискриминация объяснима лишь тем, что критик пропагандирует лишь то, о чем легче рассуждать. Что пропагандировать то, что и так всем годится? На Дюма не поступает заказ.
В популярности Дюма настолько участвует читатель, что не оставляет места критику. Критику не во что вложиться самому: его взнос не будет отмечен. Критика — это тоже форма оплаты. И расплаты. Когда успех приходит без ее участия.
Не критика, а реклама «Ля Пресс» ставит Александра Дюма в один ряд с Вальтером Скоттом и Рафаэлем; критика же пишет: «Поскребите труды господина Дюма, и вы обнаружите дикаря. На завтрак он вытаскивает из тлеющих углей горячую картошку — пожирает ее прямо с кожурой». Вопиющая неточность сравнения выдает искренность памфлетиста: можно вычислить аудиторию, состоящую из знатоков французской кухни, но нельзя обнаружить адресата, прославленного гурмана, как и Россини, закончившего свою астрономическую эпопею гастрономически: написанием кулинарной книги. Одно из заблуждений среди людей несведущих (как я) и поэтому столь распространенных: что гурманство связано более с изысканностью и смакованием, нежели с обилием и пожиранием. Единственный гурман, с которым мне довелось (в советской жизни), поразил именно тем, как быстро и жадно поглощал он то, что столь долго и нежно готовил. Природа кухни оказалась романтической: ухаживание и домогание были важнее утоления страсти.
Промазав, критик попадает в цель: Дюма не пренебрегал печеной картошкой. «Успех рождает множество врагов. Дюма продолжал раздражать своим краснобайством, бахвальством, орденами и неуважением к законам республики изящной словесности… По своей морали и философии Дюма был близок не мыслящей верхушке Франции, а массе своих читателей» (А. Моруа).
«Тонкая кость и могучая мускулатура…» Эта характеристика личности Дюма восходит к его происхождению: соединению почти пушкинскому — арапской крови с аристократической. Темперамент становится характером. «Руки, написавшие за двадцать лет четыреста романов и тридцать пять драм, — это руки рабочего!» ответ Дюма на упрек в аристократизме.
«Сегодня, — пишет он своему соавтору, — надо сделать еще одно большое усилие и как следует поработать над Бражелоном, чтобы в понедельник или вторник мы могли возвратиться к нему и закончить второй том… А сегодня, завтра, послезавтра и в понедельник, засучив рукава, займемся Бальзамо, — черт его подери!»
Секрет успеха Дюма — что он писал с тою же скоростью, с какой люди читают. Он сам себе был читатель в процессе письма. Он прочитывал каждый свой роман первым, не отрываясь, и отдавал следующему: почитай, мне понравилось.
Смех охватывает меня, когда я который день не в силах взойти на эти несколько страничек о нем самом… Если учесть, что впервые мысль написать некое сочинение «Об интеллектуализме Дюма» вошла мне в голову те же двадцать лет назад, за которые он… О Дюма! я не хочу видеть, как вылетают страницы из-под твоего пера и листвою усыпают пол… Не унижай!
Вот как я тогда думал, став, единственно по хитроумию, аспирантом Института мировой литературы имени Горького в 1972 году и предлагая отделу теории вышеозначенную тему для курсовой работы, что было достаточно благожелательно воспринято в виде моей шутки, — вот что я думал, уже закончив свой первый постмодернистский, по определению современных исследователей, роман и застав себя отнюдь не за чтением Джойса… читая роман «Сорок пять», а именно находясь в том его месте, где не помню какой уже Людовик выстригает в карете специальными серебряными ножничками специальные картинки для вырезания, для него, Людовика, специально изготовленные… Именно как модернистом восхищаюсь я вдруг Дюма, посвятившим всю главу одному лишь этому выстриганию внутри напряженного своего действия, которого он признанный мастер, кулинарно отделывая живописные картонные сценки, досадуя вместе с монархом на тряску экипажа и в последний момент неудачно срезанный вензелек, в то время как по напряженному действию, которого я, естественно, не помню, Людовик не просто себе катается, а его от кого-то прячут и спасают или, наоборот, предают, так что вся его несимпатичная демократу жизнь висит на волоске, как неловко обрезанный лоскуток почти завершенной картинки…
Кто это написал? Толстой? Пруст? Казалось, психологизм подобной сценки мог быть достигнут лишь после их открытий.
Много мы найдем подобного рода достижений и в «Бражелоне». Там как раз много такого — того, что в детстве было скучно читать. Там одно из лучших и самых объемных описаний свежего барокко, где интриги имеют очертания парков и кринолинов — модных живых картин. В юности мы это пропустили, а в зрелости не перечитали. Не в этом, как мы уверены, сила и заслуга Дюма. Надо полагать, он и сам так думал, полагая подобные застревания текста едва ли не излишними, но очень уж хотелось, очень уж получалось, слишком большое удовольствие от вкушения… Вот и остался Дюма сюжетчиком, без заслуг Ватто. Возможно, сам Дюма был мастером именно живых картин, а не сюжета, который трудно уже установить, у кого он, мягко говоря, брал. Вот уж что не грех уворовать, так это сюжет! Потому что его еще написать надо. И Пушкин не столько дарил, сколько прощал Гоголю свои сюжеты — за неплохое исполнение. Правда, это Дюма первый украл из библиотеки «Мемуары господина д'Артаньяна», переписанные впоследствии Маке, в свою очередь снова перебеленные Дюма… Трудно установить, кто у кого, тем более, что сами мемуары были подделаны неким де Куртилем.
Короче, Дюма слишком хорошо пишет, в самом изысканном, самом современном и снобистском смысле слова, чтобы заподозрить его в случайности, в одном лишь избытке таланта, а не в мастерстве.
Но — д'Артаньян!
Уже через пять лет после выхода романа говорили, что если есть еще на некоем необитаемом острове Робинзон Крузо, то он читает «Трех мушкетеров». Через сто пятьдесят лет на нашей слишком обитаемой планете мы — как тот Робинзон…
Незадолго до смерти сам Дюма наконец нашел время почитать, что написал, и начал с «Мушкетеров», и на вопрос сына сказал, как Бог: «Хорошо!» Перечитав следом «Монте-Кристо», заявил: «Не идет ни в какое сравнение с „Мушкетерами“». Трудно, наконец, не восхититься мастером, потому что, в этом случае, мы сами так считаем…
«Одно поколение может ошибиться в оценке произведения. Четыре или пять поколений никогда не ошибаются»… Моруа осмелился и написал порядочную книгу в защиту репутации Дюма, а все не избежал снисходительности, а все и восхищаясь извиняется за него, что он такой…
К пяти поколениям прибавим шестое…
Все-то мы ему отказываем… Считаем, что продолжение «Трех мушкетеров» хуже. Мол, писано в погоне за их успехом, слишком по инерции. Я и сам утомлялся Карлом XII в «Двадцать лет спустя», а прелести «Десять лет спустя» оценил в сорокалетнем возрасте, и то по изысканной подсказке одной графини. Но…
Представьте себе эпопею, растянувшуюся на сорок лет, где молодой еще век созревает и начинает стареть вместе с героем, в которого мы влюбились, когда он был молод, а провожаем почти что, во всяком случае по тем временам, стариком, представителем ушедшей эпохи, которая уже смешна эпохе народившейся, качественно новой… Представьте себе свой собственный возраст, когда вы Дюма читали, и вспомните, как весь этот блеск юности, которой не без раздражения прислуживает старый герой, вся эта молодость мира раздражала и вас; представьте, что старость увлекала вас больше молодости как раз тогда, когда в собственной жизни больше всего раздражало именно поколение его возраста… поищите теперь во всем вашем опыте чтения мировой классики — как я не могу вспомнить в этот миг ни одного — духовно здоровое произведение, в котором симпатии распределялись именно таким образом: против молодости, против прогресса… и вы не найдете аналога. Герой молод вместе со своим веком, а молодость стара — вместе со своим… пусть кто-нибудь поставит перед собой задачу подобной эпопеи и попробует ее выполнить… Это будет невозможно, потому что подобная задача противоречит естественным законам повествования: слишком сложно, чересчур интеллектуально. У Дюма — получилось.