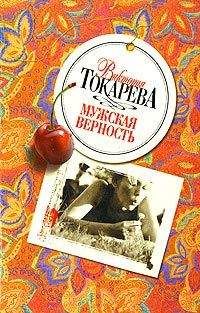Я поразился, до чего незащищенно-нежной бывает человеческая плоть, как лепестки мака. Я, как слепой, осторожно исследовал миллиметр за миллиметром.
Дело двигалось в неотвратимом направлении, так подбитый самолет может устремляться только вниз и ни в коем разе вверх.
Я пытался расстегнуть свои одежды, моя девушка мне помогала и тряслась, как в ознобе, наши пальцы сплетались, путались. Ничего не имело значения: ни моя мама с ее высоким уровнем, ни война, ни будущее моей девушки, только настоящее, сиюминутное, сейчас.
«Блажен, кто, познавая женщину, охранен любовью». Я был охранен любовью, а потому блажен и подвигался к главному событию своей жизни. Но в этот момент, за секунду до главного события, постучали в окно, и жизнерадостный голос Семушкина громко сообщил:
– Левка, тебя в штаб вызывают.
Этот стук и голос ударили меня, как дверью по лицу, и полностью выключили из состояния любви.
Семушкин знал, куда я пошел, доложил остальным, и они всем скопом решили поразвлечься. Что им до моей любви?… А когда я вернусь, меня встретит дружный хамский гогот, потому что смехом это не назовешь. Коллективное ржание. Коллектив.
Я застегнул свои солдатские брюки. Я так ничего и не свершил. И слава Богу. Какой был бы ужас, если бы моя девушка теряла невинность под окрик Семушкина. Это осталось бы с ней на всю жизнь.
Что я мог сделать? Я мог встать, разыскать Семушкина и набить ему морду. Я зажмурился и представил в подробностях, как я посылаю кулак в бесцеремонную наглость всего человечества, и эта наглость имеет черты Семушкина. Я ненавидел и лежал в ненависти, как в кипятке. Сейчас я понимаю: ненависть – это тоже страсть.
Сейчас я уже не могу так остро ненавидеть. Бывает, конечно: взметнется ненависть, как волна, и тут же опадет, и только пена на поверхности, а потом и пена рассеется. Жалко тратить здоровье на ненависть: давление скачет. Голова болит… Да… Лежу. Ненавижу. Моя девушка, она так и осталась девушкой, принялась утешать меня. Она низко наклонилась над моим лицом и шептала что-то нежное, утоляющее душу. Ее шепот касался моей кожи, я слышал губами, как шевелятся ее губы. Но я настаивал на обиде, как будто моя девушка была виновата в хамстве Семушкина. Мы как бы поменялись с ней местами: это я боюсь потерять невинность, не дай Бог забеременеть и остаться с ребенком на произвол судьбы.
Постепенно ее шепот и нежные увещевания взяли свое, я тихо-тихо начал перестраиваться на прежнюю стезю. Начал все сначала: с поцелуя. Я уже не был новичок, я уже знал, что за чем и в какой последовательности.
У Бернса есть стихи в переводе Маршака:
«А грудь ее была кругла, как будто ранняя зима своим дыханьем намела два эти маленьких холма. Был нежен шелк ее волос и завивался, точно хмель, и вся она была чиста, как эта горная метель. Она не спорила со мной, не открывала милых глаз…»
Моя девушка тоже не спорила со мной. Была готова на все. Красный свет запрета переключился на зеленый. Путь был открыт, но в этот момент снова раздался стук в окно и раздраженный голос Семушкина прокричал:
– Левка! Ну какого хрена? Тебя в штаб вызывают!
Я откинулся на подушку. Во мне разлилась немота и плоти, и духа. Ну как можно жить в этом мире, где Бернс и Семушкин и где Семушкин оказывается реальнее?
– Слушай, а может, тебя действительно вызывают? – предположила моя девушка.
Коварство было ей не свойственно, и она не предполагала его в других.
Я посмотрел на часы. Шел второй час ночи. Кто вызывает в такое время? Но так или иначе ночь была испорчена. Я оделся и пошел в штаб. На всякий случай.
Если меня не вызывали, я вернусь и застрелю Семушкина. Правда, у него тоже есть мама, и придется ей писать письмо и объяснять причину. Причина в маминых глазах будет выглядеть неубедительно. Ладно, не застрелю. Но изметелю, буду топтать ногами. Я как-то не учитывал, что Семушкин на треть метра выше меня и на тридцать килограммов тяжелее и вряд ли захочет лежать под моими ногами и меланхолично сносить мою ярость. Было прохладно, я шел скоро и ходко. Пространство и время постепенно выветривали из меня мою ненависть. Я решил, что воздействие словом тоже очень сильное воздействие, надо только найти единственно нужные слова и правильно их расставить.
Я мысленно намечал тезисы и не заметил, как дошел до штаба. Штаб располагался в деревянной избе. Я вошел и замер от золотого сверкания. Передо мной в золоте погон и наград, как иконостас, стоял сам маршал, я узнал его по портретам. Возле маршала присутствовал генерал Самохвалов. Он всегда казался мне величественным, монументальным, но сейчас как-то пожух и потускнел, как будто маршал вобрал в себя весь свет, оставив все остальное в тени – и деревянную избу, и генерала Самохвалова, и меня вместе с моей любовью.
– Печатать умеешь? – спросил маршал.
На столе стояла пишущая машинка фирмы «Континенталь». Такая же стояла у меня дома на письменном столе.
– Умею, – сказал я.
Я понял, что меня искали как самого образованного солдата.
– Садись, будешь печатать, – велел маршал каким-то домашним, бытовым голосом.
В Америке, например, булочник и президент не то чтобы равны… Нет, конечно, но это два человека с разными профессиями. Один правит, другой печет хлеб. Но они оба – люди. Сталин вбил нам в голову иную дистанцию: он – голова в облаках, а ты – заготовка для фарша в его мясорубке. Поэтому, когда сталинский сокол нормальным голосом спрашивает тебя, умеешь ли ты печатать, тут можно в обморок упасть.
Но я не упал. Я сел за машинку, а генерал Самохвалов стал диктовать мне текст. В нем сообщалось, что такого-то и во столько-то Советский Союз объявляет войну Японии. Такого-то – это сегодня, в шесть часов утра. А сейчас два часа ночи. Значит, через четыре часа.
Я отстукал двумя пальцами продиктованные слова. У меня вспотели ладони.
– Можешь идти, – отпустил маршал.
Я поднялся на ватных коленях.
– За разглашение тайны расстрел без суда и следствия, – предупредил Самохвалов. – Понял?
– Да, – сказал я.
Это значит, если я сейчас выйду из штаба и кому-нибудь расскажу, что через четыре часа начнется война с Японией, в меня тут же выстрелят, а потом зароют на полтора метра в землю вместе с моим лучезарным томлением, стихами, моей плотью, никогда не познавшей женщины.
– Ты меня понял? – еще раз переспросил Самохвалов.
– Да, – подтвердил я.
Я повернулся и пошел и был уверен, что мне выстрелят в спину. Мир сталинской политики и уголовный мир имели одни законы: не оставлять свидетелей. Может, не скажешь, а вдруг скажешь? Зачем рисковать?
Я шел и ждал, как Магда Геббельс, с той разницей, что в нее должны были выстрелить по ее желанию. Она сама об этом попросила.
У тела свои законы. Когда оно ждет любви, оно устремляется к предмету любви, выдвигая навстречу все, что может выдвигаться. Когда оно ждет смерти, оно сжимается до плотности металла, и даже кровь как будто прессуется, а глаза вылезают от нечеловеческого напряжения. Мне казалось, что сейчас мои глаза вывалятся из орбит и скатятся на землю, как две большие густые слезы… А что я мог сделать? Я мог только идти. И я шел. И ждал спиной, участком между лопатками, и от этого мое тело выгибалось, как будто я хотел вобрать в себя свою спину.
Никогда больше я ТАК не боялся.
Вообще в тот вечер, вернее, в ночь, я впервые испытывал главные человеческие состояния: ЛЮБОВЬ, НЕНАВИСТЬ, СТРАХ.
Я и позже любил, ненавидел, боялся, но уже по-другому. С иммунитетом.
Я шел, а выстрела все не было. Я больше не мог находиться в безвестности, обернулся и увидел, что расстояние между мной и штабом пусто. Никто за мной не идет, и никто не целится. Может быть, маршал и Самохвалов сели пить чай. Объявили войну и уселись за самовар или за рюмочку, отметить мероприятие. А возможно, легли спать. Ведь уже третий час ночи. Даже птицы спят в это время.
Напряжение во мне спало и единомоментно превратилось в свою противоположность. Я был уже не твердое тело, а какая-то желеобразная субстанция, которая не могла держаться на ногах. Я привалился к дереву. Мои внутренности будто опали и осыпались в конец живота и пульсировали как попало.
Идти я не мог. Да и куда? К моей девушке? Но запретная тайна заполняла меня от макушки до пят, и для любви там уже не было места. В казарме – Семушкин. Я приду, Семушкин проснется и спросит:
«Зачем тебя в штаб вызывали?»
Я скажу: «Да так, ни за чем».
«Ни за чем не вызывают, – не поверит Семушкин. – Говори…»
И я не смогу соврать. Не сумею. Ложь и тайна (что тоже форма лжи) не удерживаются во мне, как испорченная пища. Мне хочется исторгнуть это из себя, иначе наступит полное отравление организма. Я физически не умею хранить тайны. Из меня никогда не вышел бы шпион.
Я решил пересидеть в лесу до шести утра, до тех пор пока не начнется война.
– Левка! – услышал я ленивый голос. – Поди сюда!