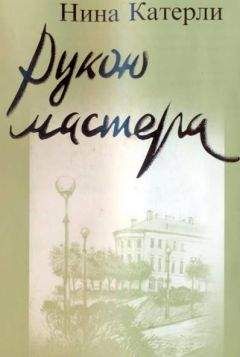Дальше шло очень хитрое логическое построение, согласно которому как-то выходило, что для здоровья тела нужно немедленно записать меня в литературный, драматический и исторический кружки, а главное, приобрести билеты в Театр оперы и балета имени Кирова. В дальнейшей борьбе от кружков я всегда отбивался, а на оперу и балет не было денег, все они уходили как раз на «удовлетворение материальных, то есть животных, потребностей», за которые отвечала тетя Ина. Она покупала продукты, варила обед, стирала и чинила одежду. Работала тетя Ина на заводе, контролером ОТК. Тетя Калерия выдавала книги в нашей районной библиотеке.
Я не был сиротой. Просто меня воспитывали тетки. Они обе никогда не были замужем, а мои мать с отцом разошлись и разъехались, когда мне было два года. Тогда модно было разъезжаться кто куда: «На Север поедет один из вас, на Дальний Восток другой…» Мать и поехала на Дальний Восток, а куда отец, не знаю. И на мои вопросы никто никогда мне не ответил. Меня мама хотела взять с собой, но насмерть встали тетки: «Сперва устройся, обживись, тогда и бери ребенка». Через полгода мать снова вышла замуж, но меня опять не отдали: «Сперва убедись, что встретила настоящего человека, который способен воспитать мальчика. Откуда ты знаешь, что твой Павел — не мистер Мордстон из «Дэвида Копперфилда»?»
Стоит ли говорить, что этот аргумент принадлежал образованной тете Калерии?
Видимо, мать убедилась в том, что ее избранник — не «настоящий человек, который способен» и т. д., — они расстались. В сороковом году, когда мне было пять лет, мать перебралась на Урал, на какую-то другую стройку. По дороге она заезжала к нам, и тут меня не отдали в третий (и последний) раз. Разговор, во время которого навсегда решилась моя судьба, я отлично помню. Воскресным утром я лежал на своем диванчике по имени «оттоманка» (помните эти узкие диванчики, всегда зачем-то в парусиновых чехлах? Там еще были валики, а вместо спинки — три подушки, по бокам пониже, а средняя — повыше). Я лежал и, не помню из каких соображений, притворялся, что сплю. А обе тетки и мать сидели вокруг стола и пили чай. Это меня возмутило! Не потому, что они не дождались меня, нет, — в воскресенье, когда не нужно рано вставать и брести в детский сад, я обычно завтракал после всех. Но они пили чай с моими конфетами! И безобразно, как хулиганы, сминали фантики!
В то время в Ленинграде вдруг появились в огромном количестве латвийские и эстонские конфеты в сказочно прекрасных обертках, и весь наш двор собирал фантики. Но мне казалось интереснее копить их вместе с конфетами. Конфет я и так ел достаточно: тетя Ина, ведавшая здоровым телом, тайно верила, что от шоколада дети особенно быстро растут и крепнут. Но я плебейски любил только ириски и красных, негигиеничных петухов на палочке, а шоколадные конфеты в красивых бумажках аккуратно складывал в специальную коробку из-под шоколадного набора. Я хорошо ее помню, славную эту шестиугольную коробку. На ее крышке были изображены два серых котенка с голубыми бантами. И вот, едва открыв в то утро глаза, я увидел свою коробку на столе. Мать как раз вынула из нее красно-золотую конфету. Тетя Калерия в это время кончила длинную фразу, начало которой я проспал, а конец был такой:
— Повторяю в третий раз, Маруся, ребенка я тебе не отдам. Категорически! Ты еще не перебесилась.
— Ты не расстраивайся, как только перебесишься, сразу же отдадим, — жалостливо глядя на мать, вставила тетя Ина. Слово «перебесишься» она произнесла с уважением, будто это — важное задание, которое мать должна выполнить во что бы то ни стало.
— Как хотите, — тихо сказала мать, комкая конфетную бумажку.
И тут с громким криком — «Не надо! Не надо!» — я рванулся с дивана, упал, ударился о ножку стола и громко заревел.
Почему-то мои тетки любили вспоминать этот случай. Как они кинулись ко мне, подняли, стали утешать: «Не плачь, сейчас с мамой нельзя, но будущим летом мы все обязательно к ней поедем, вот увидишь, поедем, не плачь, маленький!» А я никого не слушал, тянулся к столу, а, дотянувшись, схватил коробку и принялся собирать, распрямлять и складывать туда свои фантики.
Мать расплакалась: «Он отвык, он меня не любит! Ему конфеты дороже», — а потом вдруг вытерла глаза и засмеялась: «А может, это к лучшему? Какая я мать, горе одно!»
Мать, наверное, так никогда и не «перебесилась», вот я и вырос у теток, в этом длинном переулке, который начинается нашей школой, а упирается в вокзал.
Сегодня, еще с утра, я решил сразу после лекции пройти по переулку из конца в конец. И заглянуть к нам во двор, где я не был… страшно произнести, лет, наверное, двадцать. С тех пор, как нет на свете теток. А если приходилось бывать поблизости, старался обогнуть, обойти стороной. Почему? Не знаю. Так же как не знаю, почему именно сегодня утром стало ясно: пойду. Но не идется что-то, вот, застыл возле лужи и раздумываю о том и о сем. Видимо, это уже старость — такая ностальгия. Кстати, в луже плавает конфетная бумажка. Она некрасивая, серая какая-то, как и все они сегодня, в моем детстве на такую никто бы и не посмотрел! И названия теперь другие. Раньше, помню, — «Лакомка», шоколад «Мокко». Сразу хотелось съесть, несмотря на то даже, что — шоколад. А сейчас? Конфеты «Зоологические»! Страшное дело. Какую ассоциацию это вызывает? Что-то про бегемотник, слоновник, террариум.
На моих довоенных фантиках были непонятные, заграничные надписи. В тот день я сидел-сидел у матери на коленях, да вдруг и подарил ей всю коробку с котятами, но мать взяла из нее только две конфеты: «на дорожку».
Следующий раз мы с нею увиделись уже после войны, когда мы вернулись в сорок шестом из Челябинска, куда был эвакуирован тети Инин завод. Мать, как всегда, навестила нас проездом, всего на неделю. Она ехала из Германии в Красноярск.
Вот тогда мне моя мать очень понравилась. Совсем не похожая на теток, которых я всю жизнь считал старухами, она была молодая, веселая и стройная, в новенькой гимнастерке, перетянутой офицерским ремнем. Мать командовала на фронте взводом связисток, имела звание лейтенанта и кучу наград: орден Красной Звезды и множество медалей — «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и «За победу над Германией».
Мы все гордились. Я слышал, как тетя Ина застенчиво просила мать выходить на кухню в военной форме:
— Понимаешь, в халате — не то впечатление. Что такое халат? Понимаешь, Маруся?
Но и в атласном длинном, до полу, халате с невиданными оранжевыми птицами мать тоже была красивая. Еще красивее.
Она заводила патефон. «Уходит вечер, вдали закат погас, и облака, клубясь, бегут на запад…» — пела пластинка вкрадчивым, сладким голосом, а мать медленно кружилась по комнате, обходя стол, и синие ее глаза смотрели куда-то далеко, поверх моей головы, наверное, на закат, и на губах появлялась такая улыбка, как будто она что-то знает, какой-то секрет, больше никому не доступный. Входила тетка Георгина и застывала в дверях с тяжеленной продуктовой сумкой в руках. Выражение лица ее становилось молитвенным, глаза влажнели. Я видел: любуется. И мне радостно было, что она любуется моей мамой.
…Я слушал пластинку и вспоминал последнее предвоенное лето, дачу в Сестрорецке, теплый вечер, воздух, сладкий, как голос этого певца, потому что цветут душистый табак и шиповник, над заливом взлетают и падают желтые и красные ракеты, на соседнем участке крутят патефон, а вдали тоже музыка — главная, духовой оркестр.
«Курзал», — с придыханием говорят взрослые и смотрят в ту сторону, где музыка. — «Курзал. Вы пойдете в Курзал?..» «Курзал» для меня — это теплый летний вечер, запахи цветов и прекрасная уверенность, что все впереди празднично, надежно и вечно… И мама скоро «перебесится», и ей отдадут ребенка…
Мы с тетками проводили мать на вокзал. Шли пешком, и я нес чемодан. У вагона мать, перецеловавшись с сестрами, крепко обняла меня и спросила, люблю ли я ее. И я сказал, что конечно. В самом деле: кого же и любить, если не такую красивую и храбрую мать, прошедшую с боями от Москвы до Берлина!
Мать нам писала. Сообщала о всех серьезных событиях своей жизни: устроилась на работу, на телефонную станцию; получила хорошую комнату в общежитии, а сперва приходилось снимать, и это было очень тяжело — вечные недоразумения с хозяйками. Может быть, скоро семейное положение изменится, правда… этот человек еще не оформил развод, но…
Тетки следили, чтобы я регулярно отвечал матери (сами они, надо или не надо, писали ей каждую неделю). Я усаживался за обеденный стол, где обычно делал уроки, и на вырванном из середины тетради двойном листке аккуратно выводил: «Дорогая мама! Письмо от тебя получили, спасибо. Как ты поживаешь? Я живу хорошо. По русскому письменному у меня пятерка, по устному тоже, а по арифметике пока три…» Кончал письмо я всегда фразой: «Пиши нам чаще, подробнее и обо всем». Такую фразу я видел как-то в письме тетки Калерии, и она мне показалась очень убедительной и достойной.