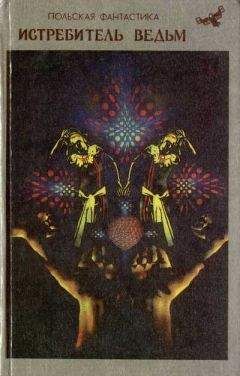Сидение в кибитке, на берегу ручья, не было приправлено никакими интересными событиями. Время, как серебряный туман, стлалось над землей, в нем отчетливо, вплоть до поблекших деталей, было различимо лишь прошлое. Это прошлое не казалось Лейле уходящей назад и уменьшающейся до размера светящейся искорки дорогой. Прошлое было похоже на плоский, в резной золотой раме живописный холст на стене, на котором можно было без всякого труда и усилия перекрасить в другой цвет фигуры, передвинуть их с места на место, пририсовать новые или вовсе стереть. Это прошлое принадлежало Лейле всецело и безраздельно, она могла там делать что угодно без всякого вреда для текущей жизни: наводить порядок или устраивать кавардак. Всматриваясь в прошлое, Лейла разглядывала там многолюдную свадебную пирушку, неудачную беременность и аборт, поставивший точку на надежде о детях, и свое детство, до которого можно было легко дотянуться ладонью и погладить его, как котенка или щенка. И красивая мама там находилась — театральная прима с полным золотых зубов ртом, и старший брат, уехавший за границу, как только это стало возможным, и растворившийся, как сахар в чае, то ли в Новой Зеландии, то ли в Бразилии — кто знает… День свадьбы Лейла высвечивала и разглядывала на своей картине частенько и, глядя на Божий мир через покосившееся оконце кибитки, улыбалась как бы неизвестно чему — а улыбалась она и свадебным гостям, и особенно тому смешному случаю с курами. А случилось тогда — ох-хо-хо! — вот что. За день до свадьбы Джаныбек принес с базара пяток кур-пеструшек и выпустил их во двор домишки, который снимал на зеленой окраине города. Этим натуральным курам, что клюют по зернышку, а не жиреют денно и нощно на птицефабрике при электрическом свете, предстояло быть зарезанными, зажаренными и поданными на праздничный стол. Рубить курьи головы вызвался друг и товарищ жениха — московский писатель Миша Дворкин, специально прилетевший на свадьбу смирного Джаныбека, который в причинении смерти дальше мухи не шел никогда.
Здесь, во дворе домишки, помещалась и овечка — в глубине двора, в тесной огородке. Овечку привезли на свадьбу сельские родственники Джаныбека с его родины, из кишлака Сарыкол. Завидев овцу, московский Миша проявил полную готовность зарезать, помимо кур, и ее, хотя не скрывал, что практического опыта в этом деле был лишен совершенно. Недолго поразмыслив, Джаныбек решил на всякий случай не рисковать, а лучше пригласить специалиста с ножиком. В ожидании свадебного казана овечка переступала ногами в своей огородке, ее унылый нос свешивался из шерстяных зарослей. Вот уж действительно — на чужом пиру похмелье.
Другое дело куры. Те беззаботно прыгали по двору, постукивая калеными носами по сухой земле, и не обращали никакого внимания на приезжего Мишу, метавшего на них время от времени охотничьи взгляды. Около полудня час пробил: Джаныбек принес из кладовки плотницкий топор, утер рукавом паутину и пыль с покрытой пятнами ржавчины стальной лопасти и протянул Мише.
— Так их поймать еще надо! — резонно заметил москвич, небрежным движением принимая орудие убийства.
— Поймаем! — махнул рукою Джаныбек. — Куда они убегут!
Бежать курам, и вправду, было некуда: дверь в дом закрыта, в щель под воротами не протиснуться. Улететь бы прочь — да крылья не те… Но при приближении людей птицы проявляли беспокойство, потерянно кудахтали и бросались врассыпную. Схватить их на бегу было непросто, но азарт преследования овладел Джаныбеком и его гостем: ловцы, растопырив руки, словно бы намеревались взлететь в небеса, бегали по двору, а куры метались как угорелые между забором, домом и уборной — дощатым скворечником на отшибе, с окошечком в виде сердечка на приоткрытой хлипкой дверце.
И вот тут-то грянуло событие. Загнанные куры, растянувшись в цепочку, вбежали, как по приказу командира, в туалетный скворечник, и одна за другою, вся пятерка, прыгнули «солдатиком» в очко на загаженном полу. Теперь их кудахтанье доносилось до ушей озабоченных ловцов приглушенно, как из преисподней.
Не опускать руки! Кур — оттуда выгнать! Но как? Сказать куда легче, чем сделать… Действительно — как? Тут на призадумавшихся птицеловов напал неудержимый приступ смеха, хотя радоваться, строго говоря, у них не было причины. Хозяин и его московский гость хохотали до слез, углом сгибаясь в поясе и хлопая себя руками по ляжкам. Остановить их безудержное веселье не представлялось возможным. А куры тем временем подавленно клекотали в своей темнице.
Привычному к провинциальным неудобствам Джаныбеку пришла в голову спасительная мысль: открыть люк выгребной ямы и тем самым освободить затворницам путь к спасению. Задумано — сделано: люк был сдвинут в сторону, куры проявили несвойственную им сообразительность и потянулись к благоуханной свободе. Джаныбек и московский Миша понукали заключенных, прицельно швыряя камни в очко.
Наконец вся пятерка выбралась на волю и принялась вызывающе отряхиваться и охорашиваться. Приблизиться к ним на расстояние вытянутой руки не рискнул бы никакой здравомыслящий человек, будь он даже военный Герой Советского Союза; следовало их сначала отчистить и отмыть. Осуществить необходимое можно было при помощи поливального шланга, пустив воду во весь опор. Так и поступили. Пять минут спустя обессилевшие мокрые курицы были пойманы и готовы проследовать на плаху — неприметный низкий пенек в углу двора. Москвич Миша Дворкин стоял у пенька, молодецки поигрывая плотницким топором. Джаныбек подошел к своему гостю вплотную.
— Миша, — сказал Джаныбек вполголоса, — я тебя прошу, просто по-дружески умоляю. Про кур — никому ни слова! А то на свадьбу наш председатель Союза писателей придет как почетный гость, узнает — и что тогда будет?
— Ну, что? — спросил Миша с большим интересом.
— А то, — сказал Джаныбек. — Он подумает, что я все это нарочно устроил, для оскорбления. И меня самого съест, как эту курицу.
Свадебный пьяный пир не спеша и старательно разглядывала Лейла за оконцем кибитки: и жениха с невестой, и главного писателя, который так ничего и не узнал про тех кур, и маму с алыми напомаженными губами и насурьмленными бровями, и тихо напивавшихся сельских родственников, и московского приятеля Мишу Дворкина. Все там были, в прошлом, только отца ее, Курта, не было видно.
Его и мама, в ту пору еще с отменными родными зубами, видела не часто: приехал-уехал. Лейла этого Курта не запомнила, а может, никогда и не видела — так случается. Дочке почему-то представлялось, что Курт был немец, наезжал из Москвы по служебным делам дня на четыре, а то и на всю неделю, а потом возвращался восвояси, улетал в столицу родины чудесной. Но мама предлагала иной вариант и твердо стояла на своем: папа — туркмен, он приезжал из Ашхабада, и это все. Никакими другими знаниями об отце Лейлы мама не желала делиться с дочкой. Вполне допустимо, что и знаний-то никаких не было в помине; сказано же: приехал-уехал. Однажды под нажимом Лейлы мама, неизвестно чему хихикая, обронила как бы между прочим, как бы вскользь, что Курт, красавец и гуляка, служил в газете корреспондентом. И через год после того, как Лейла родилась на свет, залетный папа появился в последний раз, оставил денег и исчез из поля зрения навсегда. Исчез — и все, с концами. Куда его черт унес, по словам некстати смешливой мамы, никто не знал и даже не догадывался. И из газеты уволился.
Вскоре Лейла свыклась с мыслью о том, что папы не будет. У одних детей был папа, а у других его не было, и это случалось нередко. Лейла особенно не печалилась и слез не лила, оттого что на месте Курта в доме обрисовалось пустое пространство: так уж вышло, что дочка с папой разминулась и не успела его полюбить. И никакого разрыва, приносящего боль утраты, меж ними не случилось: приехал-уехал, и то неизвестно когда… Потом разные дяденьки нередко заглядывали к маме и оставались ночевать, среди них оказался однажды милиционер с пистолетом, которым он все время размахивал, как видно, для красоты. Никакого отношения к Курту эти дядьки, по разумению Лейлы, не имели, они были местные, а не прилетали на самолете из туркменского Ашхабада или русской Москвы, где ненароком встречались и немцы. Надежда на прилет папы была совершенно зазеркальная, знакомство с ним — нереальным. Не испытывая к испарившемуся красивому Курту неприязни, повзрослевшая Лейла проштудировала с пристрастием мамины фотоальбомы, нашла там немало мужиков разных возрастов и наций, но определить с уверенностью, кто из них приходится ей папой, не представлялось возможным. На одной из фотографий с узорным, по моде тех времен, обрезом она в годовалой девочке признала себя — голышом, на руках у молодого парня с красивым гладким лицом, с копной темных волос, не тронутых расческой. Тут же находилась и улыбающаяся мама, вцепившаяся в рукав красивого парня… На прямой вопрос, не Курт ли, наконец, найден в этих залежах и почему он, если это так, ни капли не похож на туркмена, мама ответила дочке непривычно сурово: «Он австрияк из Вены. Забудь о нем, тебе же лучше будет». Но Лейла пропустила материнский совет мимо ушей, а фотографию припрятала подальше.