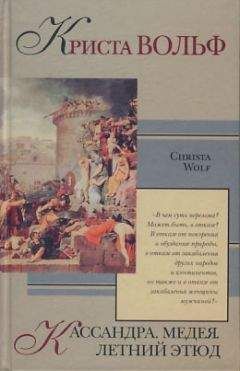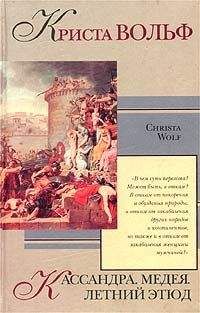Ветер овевает Йосипу лоб, но он все равно горячий. Шевельнувшаяся мысль его злит, приводит в замешательство. Трос парома устанавливает связь, пролагает путь и указывает, прямо и неопровержимо, на другой берег, на белый господский дом.
- Я не поеду, - отказывает он Марии.
- Не хочешь? - Девушку осеняет догадка. Она потрясает маленьким кошельком и радостно возглашает: - Я заплачу тебе двойную цену!
Йосип смеется, успокоенный.
- У тебя денег не хватит. Я больше не поеду.
Чего она еще ждет? Звон монет в кошельке смолкает. В ее лице доверчивость и мольба. Он становится еще более резким.
- Барин на тебя и не взглянет. Платье у тебя не шикарное, ботинки грубые. Он тебя выгонит. У него другие заботы. Я-то знаю, я каждый день его вижу.
Он пугает девушку. Минута задумчивости, и глаза ее наполняются слезами.
- Зимой барин здесь жить не станет. Он скоро тебя забудет.
Йосип плохой утешитель. Он озабочен. Все ж таки сейчас он перевезет ее через реку. Растерянность у него на лице все ширится. Он смотрит себе под ноги. А там сплошной песок, и больше ничего. Прекрасный план уходит в песок безысходной сковывающей нерешительности.
Когда Мария медленно поворачивается, чтобы уйти, Йосип во второй раз за этот вечер не может ее понять.
- Ты уходишь? - спрашивает он.
Она снова останавливается. Его это радует.
- Я тоже сейчас пойду.
- Правда?
Он начинает возиться с паромом.
- Я думаю о зиме. Будешь со мной танцевать?
Она смотрит на носки своих ботинок.
- Может быть... А теперь я хочу домой.
Немного погодя она скрывается из виду. Паромщик Йосип Пойе думает, что ей, наверно, все-таки грустно. Но зима будет веселой. Он подбирает камень и швыряет в реку. Вода удивительно мутная, и в тусклом вечернем свете на волнах не серебрятся венчики пены. Это не что иное, как серый бурливый поток, что широко и напористо разъединяет землю и означает разлуку.
Ундина уходит
О люди! О чудовища!
О чудовища по имени Ханс! По имени, которого мне вовек не забыть.
Всякий раз, когда я выходила на проталину и ветви раздвигались передо мной, прутья смахивали воду с моих плеч, а листья слизывали капли с волос, я встречала кого-нибудь из вас, кто звался Ханс.
Да, эту логику я усвоила: кто-то непременно должен зваться Ханс, все вы так зоветесь, что один, что другой, и все-таки только один. Всегда есть только один, кто носит это имя - имя, которое мне вовек не забыть, пусть я даже забуду всех вас, забуду столь же безоглядно, сколь безоглядно любила. И когда ваши поцелуи и ваше семя давным-давно будут смыты и унесены прочь всеми водами - дождями, реками, морями, это имя все еще останется здесь, оно разрастется под водою, ибо я не перестану звать: Ханс, Ханс!
О монстры с крепкими и беспокойными руками, с короткими бледными ногтями, корявыми ногтями с черной каймой, с белыми манжетами на запястьях, в разлохмаченных пуловерах, в однотипных серых костюмах, в грубых кожаных куртках и в летних рубашках навыпуск! Но дайте мне рассказать подробно, чудовища вы эдакие, и возбудить наконец презрение к вам, ибо я больше не вернусь, не откликнусь больше на ваши призывные жесты, на приглашения выпить стакан вина, куда-нибудь съездить, пойти в театр. Я не вернусь никогда, никогда не скажу больше <да>, ни <ты> не скажу, ни <да>. Всех этих слов больше не будет, и, возможно, я скажу вам почему. Ведь вопросов у вас много, и все они начинаются с <почему>. В моей жизни вопросов нет. Я люблю воду, ее прозрачную толщу, ее зеленоватый отлив, люблю безмолвные существа (и такой же безмолвной скоро буду сама!), шныряющие среди моих волос в воде, в этой справедливой воде, в этом равнодушном зеркале, которое запрещает мне видеть вас иными. Влажная граница между мной и мною...
Детей от вас у меня нет, ибо мне были неведомы вопросы, требования, предосторожность и преднамеренность, я не знала будущего и не знала, как занять место в другой жизни. Мне не нужны были денежное содержание, клятвы и уверения, а только воздух, воздух ночной, береговой, приграничный, чтобы можно было снова и снова его вдыхать для новых слов, новых поцелуев, для беспрерывного признания: Да. Да. Сделав это признание, я была обречена любить, и если в один прекрасный день освобождалась от любви, то должна была возвратиться в воду, в ту стихию, в которой никто не строит себе гнездо, не наводит над собой крышу, не натягивает тент. Не быть нигде, нигде не оставаться. Нырять, отдыхать, двигаться без усилий и однажды все вспомнить, снова всплыть на поверхность, выйти на прогалину, увидеть его и сказать <Ханс>. Начать сначала.
- Добрый вечер.
- Добрый вечер.
- Далеко ли до тебя?
- Далеко, да, далеко.
- И до меня далеко тоже.
Повторять всегда одну и ту же ошибку, ту единственную ошибку, которой ты отмечена. И что пользы потом, когда тебя омоют все воды, воды Дуная и Рейна, Тибра и Нила, светлые воды Ледовитого океана, чернильные воды горного озера и волшебных прудов? Сварливые человечьи жены точат языки и сверкают глазами, кроткие человечьи жены льют слезы в тиши, они тоже делают свое дело. Но мужчины отмалчиваются. Добродушно гладят жен, детей по голове, разворачивают газету, просматривают счета или включают радио на полную громкость и все-таки смутно улавливают пение раковин, фанфару ветра, а позднее, когда в домах погаснет свет, опять тихонько встают, открывают дверь, вслушиваются во тьму внизу, в сумрак сада, аллей и вдруг отчетливо слышат горестный звук, зов издалека, призрачную музыку: Приди! Приди! Приди хоть раз!
Вы, чудовища, с вашими женами!
Ты разве не говорил: <Это просто ад, и никто не поймет, почему я от нее не ушел>. Разве не говорил: <Моя жена, да, она чудесный человек, да, я ей нужен, она не представляет, как жить без меня>? Разве ты этого не говорил? И не смеялся и надменно не заявлял: <Никогда из-за этого не расстраиваться, не принимать близко к сердцу>? Не говорил разве: <Пусть так будет всегда, ничего другого не надо, оно не имеет значения>? Вы, чудовища, с вашими расхожими фразами, с изречениями, которые вы подхватываете у ваших жен, чтобы у вас всего было в избытке, чтобы мир был круглым. Вы, превращающие женщин в своих любовниц и жен, жен-однодневок, жен на выходные, жен на всю жизнь, и позволяете уговорить себя жениться. (Ради этого стоит, пожалуй, разок проснуться!) Вы, с вашей ревностью к женам, с вашим высокомерным снисхождением к ним и вашей тиранией, с поисками защиты у ваших жен, вы, с вашими деньгами на хозяйство и душеспасительными беседами на сон грядущий, в коих вы черпаете поддержку и сознание своей правоты перед внешним миром, вы, с вашими полубессильными, полурассеянными объятиями. Меня привело в изумление, что вы даете вашим женам деньги на продукты, и на платья, и на летние поездки, то есть вы их приглашаете (а приглашаете, значит, разумеется, платите). Вы покупаете и покупаетесь сами. Я не могу не смеяться над вами и не удивляться, Ханс, Ханс, вам, юным студентам и трудягам-рабочим, которые берут себе жен, чтобы те тоже работали, тогда вы работаете оба, каждый набирается ума на своем факультете, каждый добивается успеха на своем предприятии, и так вы делаете усилия, копите деньги и впрягаетесь в телегу будущего. Да, вы для того еще обзаводитесь женами, чтобы утвердить свое будущее, чтобы они рожали вам детей, и вы смягчаетесь, когда они, пугливые и счастливые, расхаживают вокруг с детьми в утробе. Или же вы запрещаете вашим женам иметь детей, оберегаете свой покой и устремляетесь в старость со своей нерастраченной молодостью. О, это достойно великого пробуждения! Вы, обманщики и обманутые. Не пытайтесь проделать это со мной. Со мной - нет!
Вы, с вашими музами и вьючными животными, с вашими учеными, понятливыми спутницами, которым вы предоставляете право слова... Мой смех долго колыхал воду, гортанный смех, которому вы порой с ужасом подражали в ночи. Ибо вы всегда знали, что все это и смешно и страшно и что вы сами себе хозяева, но никогда не были в ладу с собой. Так что лучше вам не вставать среди ночи, не спускаться по лестнице, не вслушиваться во тьму двора, сада, ведь это было бы не чем иным, как признанием в том, что вас легче всего на свете соблазнить жалобным стоном, манящим звуком и что вы только этого и жаждете - великого предательства. Вы никогда не были в ладу с собой. Со своими домами, со всем, что установлено. Вы втайне радовались каждому отвалившемуся кирпичу, каждому предвестию краха. Охотно допускали мысли о неудаче, о бегстве, о позоре, об одиночестве - о том, что избавило бы вас от всего существующего. Слишком охотно допускали вы это в мыслях. Когда являлась я, когда дуновение ветра давало вам знать обо мне - вы сразу вскакивали, вы понимали, что час близок, что близок позор, изгнание, погибель, непостижимое. Призыв к концу. К концу. О чудовища, я потому и любила вас, что вы понимали смысл этого призыва, вы позволяли себя звать и никогда не были в ладу с собой. А я, я разве была когда-нибудь в ладу с вами? Когда вы бывали одни, совсем одни и ваши мысли не рождали ничего путного, ничего полезного, а комнату освещала лампа, то перед вами возникала прогалина, вокруг становилось влажно и дымно и вы стояли такие потерянные, потерянные навсегда из-за открывшегося вам познания, - тогда наступало время для меня. Я могла войти, устремив на вас взгляд, который требовал: Мысли! Живи! Произнеси это вслух! Я никогда вас не понимала, а вы между тем были уверены, что вас понимает каждый третий. Я сказала: <Я тебя не понимаю, не понимаю, не могу понять!> Это длилось какое-то время, прекрасное и дивное время, когда вы были не поняты и сами не понимали, зачем существует то и это, зачем существуют границы, политика, газеты, банки, биржи, торговля и так далее, и так далее.