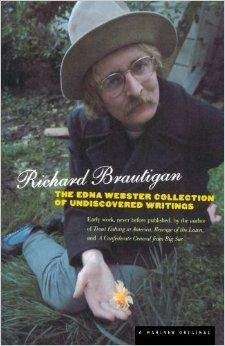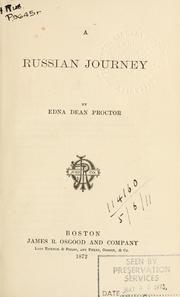— Дин носит очки, — сказал Боб. — С толстыми линзами.
— Ого, — ответил я.
— Я там с другими парнями был, — продолжал Боб. — Сидели, болтали, а Дин молчаливый такой. Вообще почти не разговаривает. Только слушает, но уж когда что говорит, так говорит что-то. Очень умный — только ужасно тихий. Языком не треплет что ни попадя. Когда что-нибудь говорит, то уж как скажет, так скажет. Понимаешь, о чем я, да?
— Чего ж не понять?
Я по голосу мог сказать — Бобу Джеймс Дин понравился. Почти больше ничего он про него не рассказывал, но когда закончил, у меня было такое чувство, что я сам с Дином познакомился. Очень реальный — и мне он тоже понравился. Странное такое чувство, приятное.
Все это произошло однажды в Юджине, штат Орегон, еще до того, как Джеймс Дин убился.
Кое-кто из страны Хемингуэя
Они сидели за столиком в баре, населенном умненькими с виду людьми — они выпивали, смеялись и было им очень весело.
— Как ни верти, — сказала она, — на этом всё. С тобой больше не прикольно, и я не хочу больше тебя видеть. Ты был…
— Это так чертовски мило, — сказал Арт, поглядев на нее несколько секунд, а потом снова уставился в стол.
— И не надо со мной разговаривать так, будто ты в стране Хемингуэя, — сказала она. — Что, нельзя просто промолчать и не корчить из себя мелодраматического осла.
Его лицо закончило бледнеть. Губы немного подрагивали.
— Терпеть не могу этих детских сцен, — сказала она. — Инфантилизм. Инфантелячество.
Подошел высокий официант и спросил, готовы ли они делать заказ.
— Черт, нет, — ответил Арт, не отрывая глаз от стола.
Официант очень медленно отошел. Когда-то он был профессиональным боксером.
— Я ухожу, — сказала она.
— Валяй, — сказал он. — Валяй.
Она встала из-за стола.
— До свидания.
— Вали, — сказал он. Он смотрел в стол и слушал, как она уходит. Когда он поднял голову, ее уже не было.
Люди за соседним столиком хохотали так громко, что он не слышал своих мыслей.
— Сучка негритянская, — сказал он. И заплакал.
Пенни не появилась, и мне поэтому было очень хреново. То есть — ну, в общем, я на это рассчитывал, но она не появилась, и мне от этого было очень хреново. Пенни обычно приходит к ручью в середине дня и плавает там голышом пару минут, а вчера — не появилась.
Еще бы мне не нравилось прятаться по кустам и смотреть, как Пенни плавает голышом: она, наверное, самая красивая индианка во всем округе. Я просидел в кустах больше часа, пока не понял, что она не придет, а потом решил топать домой и сделать что-нибудь. Я выполз из кустов, прошел через ельник к дороге и двинулся домой.
А жара вчера стояла — как в преисподней воскресным вечером, наверное.
Иду я себе, и тут по дороге скачет на своей кобыле скачет мистер Перлих. Остановился рядом.
— Здрасьте, мистер Перлих, — говорю.
— Жарко, а? — спрашивает он.
— Ага. Ну да, как бы.
Мистер Перлих — это такой длинный тощий парняга, совсем без волос. Ну нет у него волос на голове. Все выпали, когда его жена себе черепушку из дробовика снесла.
— Знаешь, чего? — спрашивает мистер Перлих.
— Чего?
— Ой. Ой, даже не знаю, — говорит он. И отваливает — ни слова больше е сказал. Мистер Перлих всегда так чудит. С тех пор, как его жена себе черепушку отстрелила.
Мистер Перлих за поворотом скрылся, и я его больше не видел. Я дальше пошел.
А жарень такая стояла, что я весь аж употел. Аж коленки ослабли — это потому, что я почти и не обедал ничего.
На крыльце этой развалюхи — сидроварни Уинстона — загорала здоровая, жирная гремучка. Я кинул в нее камнем, но промазал. Она потрещала и под крыльцо увалилась. И за мной оттуда подглядывает. Я еще один камень кинул, и она уползла под сидроварню — больше я ее и не видел. Разозлилась, наверное, да еще как!
В небе над сидроварней висело одно облачко. Белое, на плевательницу похоже. Сейчас таких облаков почти и не увидишь — чтоб на плевательницы смахивали.
Когда я шел мимо дома Хиншоу, на ветке самого здорового клена перед крыльцом, на самой верхотуре, сидел Бен Хиншоу. Ему 64, а лицо у него мартышечье. Он за мной подглядывал из-за листика.
— Ты какого черта там делаешь? — заорал я.
— Пошел отсель, — ответил он.
— Чего с тобой такое?
— Пошел отсель. Пошел. Я птичка. Оставь меня в покое. Пошел отсель.
— А-а, так, значит, птичка, да?
— Угу. Птичка.
— И какая же ты птичка?
— Малиновка.
— И как там тебе малиновкой?
— Неплохо.
— Это хорошо.
Тут на крыльцо выскочила миссис Хиншоу и заорала:
— А ну не трожь его! Оставь моего мужа в покое! Пошел отсюдова и оставь его в покое!
— Да я его и не трогал.
— Оставь его в покое и пошел отсюдова к черту.
— Это общая дорога, — ответил я.
Миссис Хиншоу села на ступеньки, закрылась фартуком и заплакала.
— Оставь его в покое, ради господа боженьки. — Весь голос у нее попадал в фартук, поэтому я почти ничего не разобрал. — Пожалуйста, оставь его в покое.
— Ладно, — ответил я. — Я пошел. И не надо плакать. Не плачьте, пожалуйста.
— Прошу тебя, — сказала она.
Я двинулся дальше.
Бен засмеялся.
— Я птичка! — вопил он. — Малиновка!
Миссис Хиншоу зарыдала еще пуще. Я прибавил ходу оттуда к чертовой бабушке, потому что когда миссис Хиншоу плачет, меня жутики пробирают.
За весь остаток пути домой я остановился только один раз. Поглядеть, как миссис Драгу сжигает цветы. Пару раз в неделю она сжигает цветы. Главным образом — ирисы. Берет, складывает в кучу, поливает керосином и поджигает. А потом садится в плетеное кресло рядом с горящими цветами и читает свою большую черную Библию. Миссис Драгу очень набожная. За последние 40 лет пропустила только одну службу в церкви. Это когда сама церковь сгорела 3 года назад. Миссис Драгу всегда читает свою Библию — да и чего б не читать, она богатая вдова, чего еще ей делать? Я-то лично Библию терпеть не могу. Слишком сухая. Мне Мики Спиллейн нравится.
Я постоял на дороге и посмотрел, как миссис Драгу сжигает цветы. Никак в толк не возьму, чего ей так нравится сжигать цветы. Как-то у мамы спросил, а она говорит:
— Ну и что?
Миссис Драгу вдруг оторвалась от своей Библии и на меня поглядела — долго-долго так, и не говорит ничего. Просто глядела и все.
— Добрый день, миссис Драгу, — сказал я.
— Ты в аду гореть будешь, — ответила она.
— Чего?
— Ты меня слышал, молодой человек. Ты будешь гореть в аду и ты это знаешь. Вечно и всегда там гореть будешь. По меньшей мере — месяц.
— Это… ну, такого не очень красиво желать.
— И не дерзи, — сказала она, взяла лиловый ирис и швырнула в огонь. — Не дерзи мне тут.
Я пожал плечами и пошел домой.
Жутко чудные люди живут у нас в городке. Иногда я прямо не знаю, что и думать.