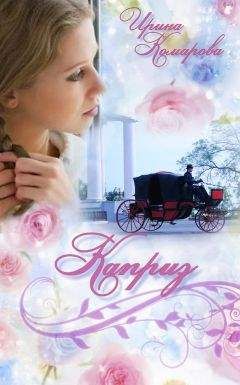Евангелина зевнула и полезла на кресло, а оказавшись там, тихонько усмехнулась и одновременно ойкнула от вовсе не нежного прикосновения рук в перчатках и холодного расширителя.
— Результат — послезавтра с восьми до часа. Вот квитанция, оплати в кассе.
Евангелина вышла, цокая шпильками по коридору: «женский» кабинет находился за «мужским», поэтому Евангелина проходила мимо грустного строя своей биологической противоположности: та в большинстве своем стояла или сидела, понурив голову; иная же ее часть — крайне малая, новички или старожилы — наигранно хорохорилась. Почти процокав проблемный ряд, Евангелина собралась уже было повернуть к кассе, как вдруг заметила Дон Кихота. Выглядел он как обычно, только слегка побледнел.
— Эй, Кихот! Неужто и вы здесь?
Дрожь пробежала по его лицу, и он, силясь, поднял глаза:
— Милая Евангелина! Какое чародейство устоит перед вами? Но иное чародейство вольно обрекать меня на неудачи… — он закашлял и прижал платок к опущенным уголкам губ.
— Милый Кихот, Львиный Рыцарь Печального Образа, сам Жуан старается стеречься этого гнилого места!
— И то — правда. Только… — он покачал головой, — я потерял целомудрие, давеча, да, вот так бывает. А дабы Дульсинее не причинять беспокойства, решил не тревожить ее…
— Что ты на это скажешь, Санчо? — усмехнулась Евангелина проходящему мимо толстяку.
— Слава богу, до сих пор никто не преставился; хоть мы и нездоровы, да живы! — резонно заметил Санчо, потерев задницу. — Только от пирогенала сидеть больно, искололи всего, эх…
Дон Кихот самозабвенно шепнул в воздух:
— Там, где блистает сеньора донья Дульсинея Тобосская, не должно восхвалять чью бы то ни было красоту.
— Ах-ха-ха, ах-ха-ха! — затрясся жир на животе Санчо. — Донья Дульсинея Тобосская! Да шлюха ваша Дульсинея, сеньор! Шлюха, к тому же заразная. Мы с вами подлетели, как два в одном; что, не отрекаетесь, любя? Эх, сеньор, сейчас опять вольют вон туда серебро, — он показал вполне определенным жестом чуть ниже живота, — и завтра вольют, и послезавтра, а потом — антибиотики, сеньор. Вызнаете, сеньор, сколько сейчас стоят антибиотики?
Пока Санчо говорил, Дон Кихот наблюдал за тем, как повозка его воображения двинулась своею дорогой, а направляясь к семнадцатому кабинету, жалобно посмотрел на Евангелину:
— Уж верно любо глядеть на всех рыцарей, которые военными и прочими тому подобными упражнениями развлекают и потешают Дам своего сердца. У каждого Рыцаря свои обязанности, — вздохнул он и, поддерживая целлофановый пакетик с болтающимися в нем пирогеналом, одноразовым шприцем и перчатками, скрылся за дверью, где лечили от любви.
Санчо подошел к Евангелине и шепнул:
— Боюсь, боюсь за сеньора, переживает больно! Тем более, как добрый христианин, он не станет мстить за обиду… А вы-то?
Евангелина потрепала его по щеке:
— А я — в кассу. Анализы сдавала.
— А, — почесал за ухом Санчо, — анализы у них дорогие! Это разве больница? Это сонмище весельчаков и затейников! Знавал я в молодости одного лекаря — так его посадили в тюрьму за то, что он двоих укокошил.
— Как укокошил? — удивилась Евангелина.
— А так, по незнанию. Вместо пирогенала мышьяк выписал.
— Разве в твою молодость был пирогенал? — усмехнулась Евангелина.
— Конечно нет, сеньора, — опустил голову толстяк. — Не в обиду скажу — уходите, не к лицу вам место это гнилое. Да, кстати, — он заулыбался, — прежде этого нам надлежит, и притом немедленно, упрятать в черный ящик одного доктора…
— Мне некогда, Санчо, выздоравливай… — отмахнулась Евангелина.
Через пять минут, отдав за анализы немалую сумму, Евангелина зашагала в сторону трамвайных путей.
Она набрала нужные цифры на кодовом замке, поднялась на второй этаж и позвонила. Открыли не сразу.
— Где ты была? — деловито осведомилась с порога Евангелина Вторая. — Полдня жду.
— В кожвене.
— Чего?
— В кожвене была, Кихота с Санчо встретила.
— А… — протянула сквозь сигаретный дым Евангелина Вторая. — Понятно.
— Ну что, что тебе может быть понятно? Сидишь тут, философствуешь, а что ты вообще знаешь?! — закричала Евангелина Первая. — Что?
— Дура, — пожала плечами Евангелина Вторая. — Просто дура, — и отвернулась.
Евангелина обняла ее сзади за плечи:
— Ну, прости, прости же меня… Я помню, что мы с тобой одно, помню, я люблю тебя, потому что мы неделимы, но я ничего не могу с собой поделать… — Евангелина Вторая повернулась, проведя осторожно пальцами по лицу Евангелины Первой. — Не могу же я любить только собственное отражение, пусть даже такое прекрасное.
— Опять Онегин?
— Онегин.
Евангелина Вторая вырвалась из рук Евангелины Первой:
— Иногда мне кажется, что я просто тебя ненавижу. Иногда — наоборот. Что мне делать с этим, неизвестно. Знаю только, что и в «дзэне» и в «дзине» — врут. Просто еще один обман еще одной абстракцией. Тьфу! Понимаешь или нет? Как нет смысла извне, так нет его и изнутри! Обман как снаружи, так и внутри, и именно это особенно трогательно и смешно… Хотя, снаружи обмана гораздо больше.
Евангелина Вторая отрешенно смотрела на Евангелину Первую.
— Не любишь ты меня, нет. Значит, и себя не любишь.
— Что за чушь! Ты пойми — чтобы раскопать себя изнутри, нужно определенное количество Пустоты, незамусоренности себя как собой, так и внешним! — крикнула Евангелина Первая. — И я люблю тебя. Но Онегина — тоже…
— А что, если «истина» открывания Себя внутри себя — очередной громоотвод от Настоящей Истины? — глядя сквозь Евангелину Первую, как бы утвердительно спрашивала Евангелина Вторая.
— А что, если… — Евангелина Первая снова обхватила за плечи свое прекрасное и чудовищное Отражение: «У нас все будет хорошо», — и нащупала под сердцем пульс Евангелины Второй.
Через день Евангелина, выходя из КВД, встретила недалеко от сквера Онегина.
— Ты тоже туда?
— Туда, только у меня денег нет, у меня там блат, — ответил Онегин, отводя глаза, совсем такие же, как у сенбернара жарким летом в средней полосе России, и добавил: — Застрелюсь.
— У тебя глаза, как у сенбернара жарким летом в средней полосе России, — сказала Евангелина. — Несчастные и красноватые с краю.
— Ты, Пелевина, всегда краев не видела, что ты можешь сказать о глазах?
— Только то, что вижу. Ладно, пойдем покурим, ты все-таки меня заразил.
— Сначала ты меня, потом я тебя, какая разница, кто кого, — почесал подбородок Онегин.
— Теперь-то уж никакой, только на меня Евангелина Вторая злится.
— Правильно, я бы тоже злился, если б мог, — рассмеялся Онегин.
— Дурак ты, Онегин. А еще характерным персонажем считаешься. Лечиться надо.
— Надо. Тебе тоже. Как живешь-то? В социум выходишь?
— Выхожу, что ж делать, деньги-то нужны.
— Да, сейчас лекарства…
— Ага, и детское питание. Как деревенская печаль?
— А что ей будет? За генерала вышла, все говорила, не изменит, а сама — видишь — вон чего подцепила.
— Так это от Таньки? Значит, наврал Пушкин?
— Пелевина, не будь наивной. Ларина своего не упустит; что ей с генералом делать ночами?
— Проехали с Лариной. Про себя лучше расскажи.
— Сказку или как?
— Или как…
— Дядька помер… да… А в деревне, Пелевина, тоска жуткая! Сначала ничего, а вот недели через две… Володька разбавил немного хоть.
— Ты же нивелировал его как вид.
— И тебя, что ли, несет, Пелевина? Это все литературный вымысел, Пушкин это… Да чтоб я с Ленским стрелялся? С Володькой?
— А ты не врешь? Дуэль-то была.
— А чего мне врать. Короче, охотились, к Лариным чаи гонять ездили, а дуэли не было.
— И где Володька сейчас?
— В эмиграции, в Нью-Йорке. Сначала, как Эдичка, вэлфэр получал, они в «Винслоу» на одном этаже жили. А потом Ленский каким-то образом высоко полетел, купил себе дом и вот — ведет здоровый образ жизни.
— Все к лучшему.
— Что?
— Ну, что Володька жив. И что здоровый образ…
— Да, это оно, пожалуй… Пелевина, а ты сны видишь?
— Вижу.
— Расскажи.
— Вчера, короче, снится мне, будто лежу я в гинекологическом кресле, по уши в гипсе, и даже голова вся забинтована. И вот врач, Нина Петровна, с бритвой в руке ко мне подходит и начинает срезать родинку над верхней губой. А потом телефон зазвонил, и я не помню дальше…
— Интеллектуальные у тебя сны, Пелевина. А я вот вчера видел, как мне Мартовский Заяц дорогу перебегает.
— Перебежал?
— Не помню.
— Онегин, тебя уже лечат?
— Нет, только диагноз сказали; я вчера напился.
— Зачем деньги тратишь, таблетки бы лучше купил.