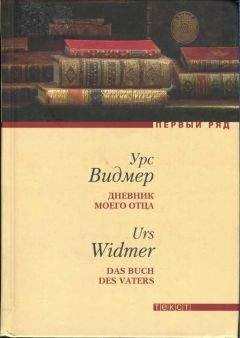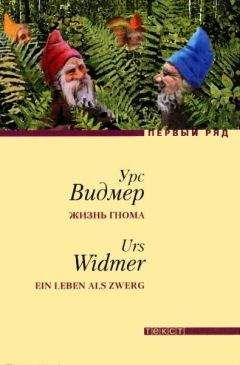Партия труда даже провела своего человека в правительственный совет. Он получил самый маленький и непрестижный департамент, ведавший трамваями и школами; смысл объединения трамваев и школ в одном департаменте никто не мог внятно объяснить. Когда после выборов отец пришел к нему в кабинет, собираясь начать заниматься обещанной избирателям школьной реформой, товарищ регирунгсрат[2] сидел за пустым письменным столом и катал взад и вперед миниатюрный трамвайчик, очень похожий на настоящий. Игрушку он получил в подарок от профсоюза общественного обслуживания. Он перевел пустой взгляд на отца. Школьная реформа, ну да, конечно, школьная реформа. Понятно, понятно. Но его только что выбрали, и, похоже, это было для него самым важным. Он улыбнулся трамвайчику. Отец вышел, хлопнув дверью кабинета, потому что всегда хлопал дверьми всех кабинетов, где его разозлили. Все еще негодуя, он заявился в ресторан, где знаток Кирхнера и архитектор, нынешние члены муниципалитета, долго успокаивали его. В тот вечер отец выпил больше, чем обычно, значительно больше, и к закрытию заведения был так пьян, что архитектор пошел в телефонную кабинку в туннеле под железной дорогой, позвонил жене моего отца и сказал, что ей придется помочь мужу добраться до дома. Она приехала почти сразу, на велосипеде, подхватила отца под руку и потащила их — справа велосипед, слева муж — домой. У отца был огромный букет роз, который он прижимал к себе обеими руками. Она спросила, для кого эти цветы, но он только хохотал и кричал, как она необыкновенно хороша, как он ее любит и что сейчас скажет ей, что он подумал, когда увидел ее в первый раз. Конечно, она уже слышала это от него.
— Ну и что же ты подумал?
— Видение!
Отец увидел ее, когда она выходила из автомобиля у летнего казино, в белом вечернем платье и шляпе размером с хороший зонт. Красные губы, черные волосы, распущенные по спине. Его как молнией поразило, и он сразу понял: или она, или никто.
— Или ты, или никто! — пробормотал он и сделал такой резкий рывок в сторону, что велосипед упал. — Я это сразу понял.
Через несколько лет он опять встретил ее и опять перед казино, правда, уже без автомобиля и шляпы, и, прежде чем она дошла до двери, спросил, не выпьет ли она с ним лимонаду или бокал шампанского. Она серьезно посмотрела ему в глаза и улыбнулась. Тогда он спросил, не выйдет ли она за него замуж. Она снова стала серьезной, еще раз посмотрела на него большими черными глазами и согласилась. Он представился:
— Карл! — И спросил, как ее зовут.
Ее звали Клара, Клара Молинари. Меж тем принесли шампанское, и они молча выпили. Потом она сказала, что видит его, Карла, сегодня не впервые. Она уже видела его — в другой жизни — несколько раз, на концерте, с красивыми молодыми женщинами, всякий раз с новой, а потом в баварской пивной, куда она зашла со своей лучшей подругой, виолончелисткой, выпить вина. С ним сидели сразу все три его дамы, и он рассказывал анекдоты один за другим. Было очень смешно. Она тоже смеялась, а ее подруга просто хохотала.
— Вы пили не пиво? В баварской пивной? — спросил отец. — И были без мужчин?
— Не пиво. И без мужчин.
Они поженились, может, и не в тот же вечер, но как-то очень быстро. В бюро регистрации браков с ними были только виолончелистка и Феликс, брат отца.
Отец был безмерно счастлив, когда перенес жену на руках через порог своей холостяцкой квартиры. В их первую брачную ночь, нет, еще до нее, они рассматривали фотографии, сидя на отцовской кушетке. Клара хотела, чтобы отец получше ее узнал, и притащила их в голубой коробке. Вот так он увидел отца Клары, строгого мужчину с черной бородой, и ее мать, казавшуюся более мягкой.
— Она умерла спустя две недели после того, как ее сфотографировали.
Пятнистая кошка, которая тоже умерла, и дом, настоящая вилла, ее тоже уже не было. Клара в летнем платье в цветочек, прислонившаяся к автомобилю, отцовскому «фиату». (И «фиата» больше не было.) Ее сестра — девушка, похожая на лань. Дядя, напоминавший одновременно гнома и обломок скалы, стоявший посреди виноградника. Тетушки во вдовьих платьях. Кузен с альпинистским тросом на плече и ледорубом в руке… На самом дне коробки лежала большая фотография.
— Это визит кайзера.
— Кайзера? Кто из них кайзер?
— Конечно, вот этот.
— А, этот! — Отец посмотрел: всадник с плюмажем на голове в окружении адъютантов, тоже на конях, и старших офицеров швейцарской армии. Позади них — чинная и чопорная толпа.
Клара показала на маленькую девочку в первом ряду, серьезно смотревшую в объектив:
— Это я!
Мой отец склонился над фотографией. Он внимательно всматривался и даже снял очки. Потом, покраснев, показал на лицо, выглядывавшее из-за плеча какого-то неуклюжего парня в кепке, и сказал:
— А это — я!
Вечером накануне того утра, когда умер отец, я был в цирке вместе с друзьями Максом и Евой и матерью. Когда мы собирались — мать металась вверх и вниз по лестнице, — отец вышел из своей комнаты, желтый и еще более прозрачный, чем обычно, посмотрел на меня казавшимися огромными на исхудавшем лице глазами и пошевелил губами.
— Что? — спросил я.
Он повторил, и, наклонившись к нему и читая по губам, я понял.
— Останься. Мне нехорошо, — сказал он. Отец был в вязаной куртке — это летом-то! — в руке сигарета, влажные глаза за стеклами очков.
Я обнял его. Ему было нехорошо уже несколько лет.
— Но, папа, ты же знаешь, у нас билеты в цирк, Ева с Максом нас ждут. — Он кивнул. — Мы вернемся не позже одиннадцати.
Представление было интересным: замечательный номер на трапеции, вальсирующие на задних ногах лошади цвета жженого сахара и довольно смешные клоуны. Без десяти одиннадцать мы вернулись домой. Отец уже спал, во всяком случае, я не услышал ни звука из его комнаты, ни дыхания, ни кашля, все время будившего его, а часто и нас. Моя комната находилась как раз над отцовской. Она всегда была моей, потому что я жил с родителями, хотя к тому времени мне уже исполнилось двадцать семь: мне казалось, отец не пережил бы, если б я съехал. Он был так плох, так изможден. Он напоминал мышь, запертую в клетку из книг, мышь, с которой содрали кожу. Каждое прикосновение доставляло ему боль, каждый поцелуй, каждое объятие; да и сам он от боли уже почти не двигался. Самые дальние маршруты, на которые он был еще способен, — это дойти до ванной, чтобы проглотить таблетку болеутоляющего, или сходить в туалет. Я ничего не мог придумать, чтобы помочь отцу, только временами заглядывал в его комнату и молча смотрел, как он пишет. Это ему не мешало. У него была пишущая машинка, на которой он с бешеной скоростью печатал одним пальцем. Каждый вечер, перед тем как пойти спать, даже после поездок или вечеринок, когда все расходились только под утро, он записывал что-то в дневник; это была переплетенная в черную кожу книга, когда-то в ней было много пустых страниц, но он исписал почти все. Он занимался этим вот уже полвека. Это был его урок, он не мог иначе. У отца был такой мелкий почерк, что одной страницы хватало на несколько дней. Писал он без лупы, низко склонившись над бумагой, но, наверно, даже сам не смог бы прочитать написанное. Старые страницы, заполненные сорок или пятьдесят лет тому назад, тоже без него было не разобрать. Четкий почерк, идеально ровные строчки. Самые крупные буквы — в миллиметр высотой. Один раз, один-единственный, я спросил, что он там пишет.
— Книгу моей жизни, — ответил он.
Если я заглядывал в его комнату, он всегда говорил: «Возьми конфету», — даже когда я вышел из того возраста, в котором сладости любишь больше всего. И я открывал нижний ящик письменного стола и брал из большого стакана малиновую или лимонную карамельку. Отец смотрел на меня, не переставая писать.
В других ящиках (однажды я туда заглянул, когда отец их выдвигал) лежали перья, пузырьки с тушью, какие-то бумаги, скрепки, конверты, марки, ластики. Правда, самый верхний ящик был заперт. Всегда. Там были секретные вещи.
В тот вечер я заснул с трудом, а потом меня мучили кошмары. Сквозь сон я услышал из комнаты отца какой-то шум, словно сломалась ветка. Еще не проснувшись, я соскочил с постели и помчался вниз по лестнице. Толкнул дверь к отцу. Он лежал в ванной комнате, привалившись боком к ванне, голова свесилась под умывальник. Дыхание его было хриплым, прерывистым. Я понял, что он умирает. В правой руке у него была сигарета. Я бросил ее в ванну. Потом встал на колени, схватил отца за руки и начал вытягивать из-под умывальника. Потом опустил, потому что из крана во все стороны брызгала вода, надо было его закрыть. Снова потащил отца, оказавшегося зажатым между умывальником, ванной и стеной. А когда я освободил его голову, в ящике для белья застряли ноги. Кое-как мне удалось перетащить его обмякшее тело в комнату и положить на постель. Он был такой маленький и такой тяжелый! Сломанные пополам очки лежали на ковре. Наверно, я на них наступил.