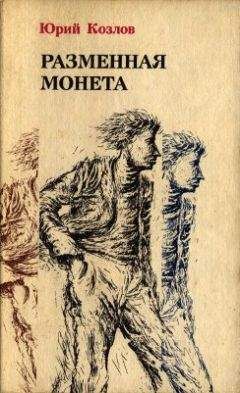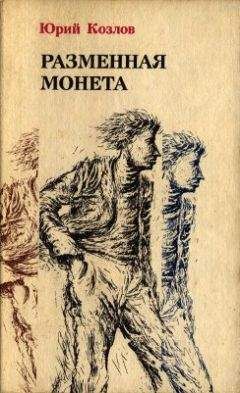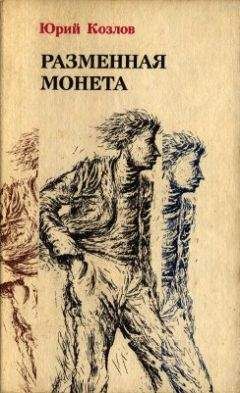Что-то странное происходило с Никифоровым. Чем очевиднее становилось, что восстановить часы невозможно, тем яростнее укреплялся он в намерении их восстановить. Словно вызов бросал проклятой судьбе: нелюбимой работе библиографа, ста восьмидесяти, из которых на руки приходилось сто пятьдесят четыре, гнусной полуторакомнатной квартирке гостиничного типа без прихожей и с сидячей ванной, где они жили втроём, голодному, пропахшему мочой и маргарином детскому садику, куда каждое утро отводили дочь, да любому дню своей тридцатисемилетней жизни, за исключением разве лишь редких моментов, когда выпивал, парился в бане, спал с женой, да, быть может, читал что-то интересное. Никифоров как бы загадал, поспорил неизвестно с кем, что если воскресит часы — и его жизнь воскреснет, вытянется из болота убожества.
С какой страстью взялся за дело! Начал с футляра. Очистил от въевшейся извести, каменного птичьего помёта. Просушил. Потом шлифовальной машиной, а где не получалось, рукой, сперва крупной, затем мелкой шкуркой доскрёбся до чистого с витиеватым рисунком, розового, как птица-фламинго, дерева, стерев предыдущие загубленные слои в серую едкую пыль. Никифоров скрепил обнажившееся древесное тело нитролаком, отчего оно сделалось матово-золотистым, после чего покрыл тёмно-красным масляным лаком, и футляр стал казаться в убогой их квартире дворцовым музейным пришельцем. С механизмом оказалось сложнее. Вымочить в керосине, освободить от зелёной, как мох, окиси, смазать, вернуть стрелкам и циферблату бронзовое свечение — большого ума не требовалось. Вот заставить ходить… Никифоров неплохо, как ему казалось, разбирался в технике. В армии год прослужил автослесарем в гараже, второй год шофёрил — возил начальника штаба. Часами, вернее такими часищами, впрочем, заниматься не приходилось. Лишь раз, помнится, кто-то на даче попросил исправить остановившиеся ходики с кукушкой. Никифоров тщательно их почистил, смазал — и пошли. Думал, и тут пойдут. Но застопорилось. Вроде бы все колёсики были на месте, между ними осуществлялось необходимое сцепление, ничто не препятствовало круглому тяжёлому маятнику на длинном стержне (лишь потому, сердешный, уцелел, что застрял распористо между стенками футляра) мерно тикать. А не тикал. Никифоров в очередной раз вывинчивал из лакированного дворцового нутра механизм, с ненавистью вглядывался в жёлтую латунь, дрожащая рука сама ползла к молотку, чтобы разбить, расплющить к чёртовой матери! Судьба пересиливала. «Не может быть, — убеждал себя Никифоров, — чтобы я чего-нибудь тут не понял!» В сотый раз мысленно по зубчатым колёсикам, втулкам, шпонам и шпилькам — по часовому лабиринту — проходил путь от маятника до стрелок. Тут ему и сойти с ума, уступить судьбе, если бы жена вдруг не привела однажды вечером пенсионного умельца дядю Колю с первого этажа. «Дядь Коль, — с презрением посмотрела на балдеющего по-турецки над механизмом Никифорова, — подскажи идиоту, вторые сутки вот так сидит, не жрёт…» — «А, едрит твою! — обрадовался дядя Коля. — Казанского завода имени Кагановича часики! До тридцать третьего такие клепали».
Казанского. Имени Кагановича. Значит, никакой ценности. Да стоило ли ради такого дерьма… Никифоров думал, что спорит с судьбой, а судьба смеялась над ним. «Ну чё? — дыхнул водочкой, луком дядя Коля. — Не идуть?» — «Имени Кагановича, — махнул рукой Никифоров, — куда ж таким идти?» — «Эт ты зря! — обиделся то ли за часы, то ли за Кагановича дядя Коля. — При Лазарь Моисеиче и часы как поезда, и поезда как часы бегали!» — полез кривыми, чёрными от въевшегося металла пальцами в самое латунное сердце часов. Ту работу, которую Никифоров выполнял сто раз предварительно обдумав, на грани нервного срыва, дядя Коля без малейших размышлений, забористо ругая новое пенсионное уложение, обсуждаемое как раз по телевизионное программе, делал кривыми, чёрными, частично без ногтей, пальцами. Они вдруг обрели балетную лёгкость — трясущиеся алкоголические дяди Колины пальцы, так же стремительно выпорхнули из механизма, как влетели. «Дай-ка заколку, Таньк», — буднично попросил дядя Коля. «Заколку? Какую заколку?» — удивилась жена. «А простую, — объяснил дядя Коля, — воткну заместо шпоны. Шпона выскочила, колесо, едрит твою, гуляет по оси, вот и не идуть». — «А теперь, значит, пойдуть?» — Никифоров решил, что дядя Коля над ним издевается. «Куда ж им деваться? — чёрные пальцы, сжимая заколку, вновь нырнули в латунное сердце. — А почистил знатно, — одобрил дядя Коля, — с маслицем только маленько переборщил». Он был настолько уверен, что теперь часы пойдут, что даже не стал дожидаться, пока Никифоров установит в футляре механизм. У двери задержался. «Вспомнил. Чего часы-то скинули с производства? Проникающий бой! Ты учти». — «Проникающий бой? Это… что?» — «А узнаешь, — ухмыльнулся дядя Коля, — люди подскажут». — «Дядь Коль, — спохватился Никифоров, — если пойдут, с меня поллитра». — «А брось! — огорчённо вздохнул дядя Коля. — Я и на солёный огурец тут не наработал, не то что на поллитру…»
Никифоров почувствовал обиду, как всегда, когда сталкивался с проявлениями чужого достоинства, настолько привык, смирился, что мир без достоинства. Оттого-то когда кто-то вдруг обнаруживал достоинство, Никифоров усматривал в этом если не предательство, то как бы нарушение неких неписаных правил. От кого совсем не ожидал, так от дяди Коли. Пенсионный алкаш, чёрные пальцы, мат-перемат, а и часы исправил и поллитру отверг. Левша и английский лорд в одном лице!
Но моральные издержки не в счёт. Главное результат. Часы пошли. Никифоров пересилил судьбу. Правда, не без помощи жены. Значит, если всё будет, как он загадал, в этом и её заслуга. Никифоров с благодарностью посмотрел на Татьяну.
— Дерьмо! — вдруг произнесла она с невыразимым отвращением.
— Что дерьмо? — опешил Никифоров.
— Часы дерьмо и ты дерьмо! Всё дерьмо! — хлопнув застеклённой дверью, ушла на кухню.
Никифоров хотел сказать, что, во-первых, не стоит хлопать дверью. Дверь — дрянь, стекло может вылететь. Во-вторых, их прозябанию приходит конец, скоро охо-хо… Но промолчал. На «во-первых» жена ответила бы, что дверь такое же дерьмо, как часы, как сам Никифоров, как всё. На «во-вторых», что со дня свадьбы «охо-хо», двенадцать лет «охо-хо», а у неё ни шубы, ни зимних сапог, ни хрена. Татьяна, когда злилась, слов не выбирала. Никифоров не пытался её воспитывать, так как в глубине души чувствовал вину перед ней за собственное бессилие изменить жизнь к лучшему. За саму жизнь, при которой нормальный здоровый мужчина, если он не вор, не бандит, не кооператор, не начальник — не может доставить семье приличествующее существование. За то, что суетится в подлой жизни, как таракан в мусорном ведре, считает копейки, экономит на сигаретах, лезет в любые очереди, прибегает, счастливый, домой с какими-нибудь жалкими колготками, мыльцем, банкой растворимого кофе в клюве. «Что мне, — помнится, не выдержал как-то Никифоров, — украсть где-нибудь сто тысяч? Чтобы потом посадили?» — «Сто тысяч? — нехорошо рассмеялась Татьяна. — Да тебе, долбачок, не о ста тысячах мечтать, а чтоб просто так, за чужого дядю не посадили!»
Славные кагановичские часы пошли минута в минуту. Никифоров подновил чёрной тушью цифры и виньетки на бронзовом лице, часы сделались ещё стариннее и новее. Одновременно сделалась очевидной полнейшая их нелепость в крохотной квартирке. До циферблата было значительно ближе от потолка, нежели от пола. Никифоров вышел на кухню, а когда вернулся, застал дверь в часы неплотно прикрытой по причине оставшейся снаружи фланелевой полы. Дочь с такой неохотой выбралась из часов, что Никифоров понял: она опять залезет, как только представится возможность, и будет лазить, лазить, лазить… Наверное, часы были бы хороши в квартире Кагановича. В полуторакомнатной — с сидячей ванной и без прихожей — квартире Никифорова они были совсем нехороши.
Ночью Никифоров проснулся от приступа пещерного ужаса. Ужас был волнообразен. Никифоров проснулся на излёте волны, но явственно расслышал, как дребезжит стекло в дрянной расшатанной двери. Стало быть, ужас не являлся чистым продуктом сознания, а был отчасти материален. «Спишь?» — спросил у жены.
«Нет, — сдавленно ответила та, — какая-то мерзость приснилась. И страшно как будто… Не знаю даже, с чем сравнить». А вскоре Никифоров опять проснулся. На сей раз от какого-то всеобщего вопля, странным образом перетекающего из подсознания в реальность или из реальности в подсознание, сразу было не разобрать. Никифоров успел только подумать, что, должно быть, грешники так кричат на Страшном суде. И тут же понял причину кошмарных пробуждений. Часы! Били часы! Бой — терпимый, даже приятный в дневное время — совсем иначе действовал ночью на спящего человека. И жена поняла. Смотрела на Никифорова, как если бы застигла его, влетающего в полнолуние в окно на перепончатых крыльях с губами в невинной христианской крови. «Пустил, сволочь, часики!» — прошипела она. И соседи как-то враз расчухали, откуда беспокойство, — колотили во все стены, в пол, потолок, телефон разрывался от звонков. Проникающий бой, вспомнил Никифоров слова дяди Коли, спасибо, люди, объяснили. Остановил маятник.