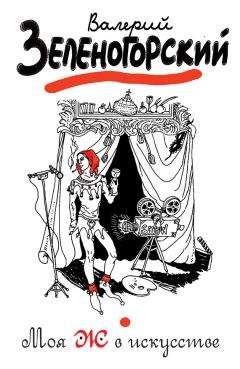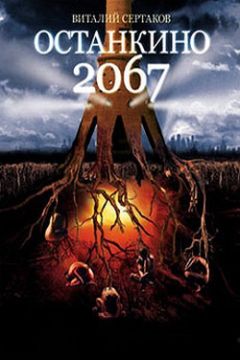Пышные волосы на всем теле привлекали толпы малолетних фанаток и теток восковой спелости.
Он выделялся на эстраде лишь тем, что мог спеть своим голосом и имел минимальное музыкальное образование (умел в отличие от других, поющих под магнитофон, а иногда и под чужую фонограмму, сыграть на балалайке «Светит месяц»).
Дела его шли хорошо: много концертов, много денег, но хотелось европейской славы Э. Джона и Робби Уильямса, хотелось так, что сводило яйца от зависти, и успех на родине лишь распалял эту страсть.
Он работал, сутками сидел в студии, многократно прослушивал песни великих исполнителей и не понимал секрета: простенькая мелодия из семи нот у них звучала, как симфония, а его выступления с симфоническим оркестром и многоногим балетом выглядели, как жопкин хор в Карнеги-Холл.
Все у него было, как у больших: лимузин длиннее, чем у Джексона, костюмов немерено, личный «фалькон», охрана из ветеранов подразделения «морские котики» и целая свора стилистов, визажистов, пресс-агентов и прочей шушеры, окружающей артиста, поющей ему, что он гений. Он не обольщался, зная цену этой гусенице-многоножке, переползающей от артиста к артисту, со съеденного дерева на зеленое и плодоносящее.
Бабкин был везде: на обложках глянца, на креме от морщин, на премиях «Грэмми». Выступал на лучших концертных площадках мира, получал музыкальные премии в Монако из рук принца, как самый популярный в России.
Кто знает, кто самый популярный в пиратской стране, да и стоила эта премия недорого — один концерт в Сургуте, и ты лауреат и поешь в концерте после Джексона, а за тобой какая-нибудь Мэрайя Кэрри. Ты поешь, а в зале удивляются: кто этот прикольный русский в блестящем? «Чувак думает, что он поет, хрен поймешь этих русских», — шелестело в зале.
Потом в «Новостях» показывали Бабкина в обнимку со звездами — он не радовался: понимал, что сам фотографируется со зрителями после своих концертов, а они потом показывают в своем Ульяновске, как дружат со звездой.
Коллеги-композиторы приносили тонны своих творений, но что ни песня, то торчат уши Маккартни или Стинга: случайно музыка навеяла.
Он начал сотрудничать с западными продюсерами, записываться в студиях Лондона и Майами, заказал костюмы у Гальяно.
Музыканты, записывающие мюзиклы Уэбберу, не понимали, чего хочет этот русский, кто он — нефтяник или банкир? — но русский платил хорошо, а за деньги они готовы были играть ревущему медведю.
На гастролях в Москве Э. Джона он просидел весь концерт, затаив дыхание, и пытался понять, как человек, сидящий спиной к залу за одним роялем, достигал такого оргазма.
После на закрытой вечеринке он умолил критика Двойкина, известного специалиста по западным звездам, представить его сэру Джону и, если тот разрешит, спеть для него свои новые хиты, купленные у композитора из Голливуда как отходы, не вошедшие в новый фильм.
Целый день Бабкина трясло, как Везувий, он не знал, что надеть, уже десять костюмов он отверг и к пяти часам решил надеть мундир маршала артиллерии, подаренный Министерством обороны за заслуги на генеральских банкетах.
Он зашел в ресторан «Марио» в белом мундире с золочеными пуговицами, и все замерли от восхищения. Сэр Джон даже не повернул головы, продолжая говорить со своим менеджером. Он был уже в пальто, когда Двойкин подвел его к трясущемуся Бабкину.
Сэр учтиво выслушал, что перед ним русская мегазвезда и у него десять платиновых дисков. Сэр удивился: у него было только семь. Бабкин, не знающий ни одного языка, таращил глаза и глупо улыбался.
Он церемонно снял китель со своих плеч, подал сэру Джону, желая поменяться, как футболисты. Сэр не понял, пальто не снял, а китель принял.
Бабкин юркнул за сцену, надел феерический костюм от Гальяно и запел; все хлынули к подиуму, где пел кумир, а сэр, испугавшись, что придется хвалить, ушел, оставшись без назойливого внимания, даже Двойкин пропустил исход гения.
Спев две песни, Бабкин вернулся в зал. Без Элтона стало как-то лучше, все встало на свои места. Все вкусно ели и пили — при высоком госте робели: черт их поймешь, этих нерусских.
На следующий день в газете «Жизнь звезд» вышел огромный разворот с фотографиями, на которых Элтона Джона, плачущего на последнем концерта своего друга Нуриева, совместили с лицом Бабкина. Вышло значительно и масштабно.
Почитатели гордились Бабкиным, а он остался недоволен неучтивостью Джона, так порядочные люди не поступают. «Ну что с него взять, с меньшинства?» — думал Бабкин.
Сам он себя ценил, сдал сперму в банк будущих поколений и генетический материал свой не транжирил.
В зрелом возрасте он занялся акробатикой и довел свое тело до фантастической гибкости. Это позволяло ему самому делать так, что его ДНК на сторону не уходила. Он осуществлял полный цикл, все сам — кому доверишь божественное тело?
Вскоре он стал замечать: чужие песни поют у него в голове, совершенно забивая его собственные мелодии. Он пошел к врачам, стал жаловаться, что голоса сводят его с ума, светила смущенно кивали и обещали помочь, но их рецепты не помогали.
Бабкин не мог выступать, он выходил на сцену, начинал петь, но далекие голоса от Фрэнка Синатры до Робби Уильямса сбивали его, хор этих голосов рос и множился, и в этом хоре Бабкин уловил грозное предостережение, смысл которого он понял кромешной ночью — ему они вынесли приговор: «Закрой рот, не нарушай вселенскую гармонию, твой голос лишний в нашем хоре!»
Бабкин перестал петь даже в душе, карающий меч витал над ним, но однажды он заметил, что на караоке это не распространяется, и теперь поет в свое удовольствие, и его ничто не беспокоит.
В жизни народа очень много разговоров о певцах, артистах и прочих мастерах художественного свиста…
Нормальные, вполне состоявшиеся люди глупеют, когда за свои деньги нанимают звезду, платят ей, а потом сидят за одним столом и решают вопрос мироздания. Я всегда удивлялся: почему жизнь какой-то Маши Кудлашкиной и ее сожителя интереснее собственной жизни? Ни у кого не возникает желания после обеда пригласить официанта за стол и поговорить с ним за жизнь! Я понимаю выпить со своим врачом, юристом, но вот какого черта все, от уборщицы до олигарха, умирают как хотят знать, что чувствует Пугачева в день бракосочетания с Ф. Божественным! Наверно, свет рампы ослепляет зрителя настолько, что человек, говорящий не своим голосом и представляющий выдуманную жизнь, так интересен окружающим.
Более нахального и мелкого люда, чем наши артисты в большинстве своем, я не знаю до сих пор. Жизнь их тоже не сахар: сначала путь на олимп, где ты всем обязан, морально зависим, потом призрачный успех, месть тем, кто видел твое унижение, новое окружение, где твои фантазии некому проверить, потом закат и напоследок байки, как ты гремел, собирая стадионы и Дворцы спорта. Ну поет человек, не Леонардо, не Рафаэль — чего же следить за его каждым вздохом или пуком? Ах, вчера он был в белом, а сегодня — в синем; был замечен на концерте у своего коллеги, на юбилее «20 лет вместе», и что? Вот так и ходят они друг к другу на перекрестное опыление.
Я совершенно случайно пришел в этот шоу-бизнес уже зрелым человеком около сорока лет. Рухнула система концертных организаций в конце девяностых годов, и любой человек мог организовать гастроль любимому артисту. Мои друзья из города детства попросили меня пригласить каких-нибудь артистов на городской праздник, посвященный 1 Мая. Я работал в НИИ, руководил сектором, имел опыт проникновения в театры, а эстрада мне не очень нравилась, песни о далекой и светлой жизни как-то не входили в мой быт. Песни нравились не совсем цензурные, а их люди в Кремлях не пели. Я в какой-то день посмотрел на афиши и решил, что надо бы пригласить Кобзона. Пришел я на служебный вход зала «Россия» — никаких секьюрити тогда и в помине не было, — прошел на сцену, где репетировал Иосиф Давыдович. Он стоял у рояля и пел. Дождавшись паузы, я изложил ему просьбу своих друзей. Он спокойно выслушал меня, никуда не послал и сказал, что гастролями занимается его директор. Я не знал тогда, что у человека может быть директор; в бане, на заводе — это мне было понятно, но директор у человека — очень смешно! Кобзон показал мне на усталого, задерганного еврейского мужчину, который больше походил на доктора в районной поликлинике, чем на директора большого человека. Директор сказал, что у них все расписано: Кремль, Колонный зал, Барвиха — надо было раньше думать. Я стал прощаться, но он задержал меня и посоветовал обратиться к директору Лещенко, дав мне его телефон. Мы вели долгие разговоры с этим директором, наконец все сладилось, я приехал в город детства, Лещенко спел, получил деньги, и я за два выходных заработал одну тысячу рублей при зарплате в месяц 180 руб. После Лещенко были другие мастера жанра, и в конце сезона меня пригласил на постоянную работу администратора известный маэстро. Слава в тот момент у него зашкаливала. Зарплату мне дали 600 руб., и я сказал в НИИ, что иду работать в советско-швейцарское СП, и попрощался с народным хозяйством, которое вскоре развалилось. На дворе был 1987 год, год перемен: «Перемен требуют наши сердца» — пел идол с раскосыми глазами. Маэстро жил в центре, напротив Старой площади, в двухкомнатной квартире. Открыл он мне дверь в трусах. После легкого общения он спустил трусы и показал мне свой член на предмет исследования на наличие триппера. Я слегка охуел, но опыт диагностики данного заболевания у меня был. Глаз не подвел, это был мнимый триппер, что подтвердил последующий анализ. День начался нехило, пролог удался. Следующим пунктом была встреча с крупной партией валюты, которую маэстро желал приобрести для укрепления своих позиций. Я понял, что ст. 88, часть 2 УПК уже на горизонте. Я должен был сыграть роль покупателя. Маэстро передал мне сверток в газете, полный красненьких пачек тысяч на двадцать. Менялы пришли через час, я показал им наличность (курс тогда был 3 к 1). Денег у них с собой не было — это была пристрелка. Много лет спустя на каком-то приеме я встретил этих двух банкиров, уже легальных, и они с почтением пожимали мне руку, подмигивая мне, как серьезному клиенту из благословенного прошлого. Маэстро постоянно звонил кому-то, не переставая, по списку дел, которых было, по-моему, штук тридцать. Потом мы поехали в колбасный магазин, где директор одарил любимого артиста копченостями; мне также перепало микояновских деликатесов. Вечером планировался ужин в «Узбекистане» в кабинете, где маэстро принимал двух будущих министров обороны и одного президента Кавказского региона. Я был за столом для расчета и разруливания экстремальных ситуаций. Маэстро тогда был в завязке, пил кока-колу, а я выполнял роль его горла. Пить в это время я еще не умел, а офицеры глушили в темпе скорострельной бортовой пушки. Часам к десяти я держался только на чувстве долга, два раза бросал харч в местном туалете — организм боролся с интоксикацией. Разговоров я не помню, по-моему, обсуждалась проблема награды нашего артиста орденом. Генералы после четырех литров на троих уехали в действующую армию, а я, артист и будущий президент поехали в ночной бар гостиницы «Россия», где зажигали люди под цыганские напевы. Все закончилось часов в пять; я до-ехал до дому и упал возле двери бездыханный. Вот тебе маза фака шоу-бизнес! Ровно в семь утра мне позвонил маэстро и стал читать план на сегодняшний день и скомандовал прибыть через час на ул. Серова. Я прибыл — он был свеж и бодр, а я хотел умереть. Мне было торжественно заявлено, что я тест прошел. Мне было поручено новое испытание — начать ремонт квартиры на Тверской, вырванной у Моссовета в результате большой и многовариантной борьбы. Маэстро мог купить, но получить в цэковском доме бесплатно — это было важнее звания Героя Социалистического Труда. Сделать ремонт при советской власти было делом архисложным: ничего не было, людей нанимать нельзя. Была одна организация на всю Москву, называлась, кажется, «Ремстройтрест», которая делала ремонт в пределах выделенных фондов. Маэстро привел меня туда, поторговал лицом, и руководитель треста дал команду своим людям оказать содействие. Деньги артист не жалел; финские унитазы были по разнарядке только членам Политбюро, но мы вырвали два унитаза у секретаря ЦК посредством интриг, подкупа и фальсификации акта о ДТП с грузовиком унитазов секретаря ЦК. Плитка «розовая пена» тоже была добыта в результате хищения группой мошенников из фондов УПДК для ремонта квартиры посла Уганды. И так до последнего плинтуса. Мебель тоже была сложной позицией. Сегодня проще получить «Майбах», чем тогда комплект кожаной финской мебели белого цвета. Давали вишневую, но хотелось белую! Заказали и то и это — и в результате маэстро получил два комплекта: себе взял белую, а мне впарил вишневую за три номинала; жена моя была счастлива! Ремонт был сделан в рекордные сроки — на очереди был переезд родителей артиста в Москву, и я понял, что второго ремонта я не переживу. Не хотелось терять квалификацию, и я попросился на гастроли, ближе к искусству, ближе к сцене. Мы поехали на несколько недель на Урал, где, переезжая каждый день из города в город, дарили свое творчество жаждущим. После концерта был ужин с почитательницами таланта. Были города, где проституция еще была только в проекте, и тогда артист посылал нас в город на поиски. Когда не было девушек, он нервничал, злился, жаловался на судьбу, желал все бросить и уехать в Москву первым рейсом. Человек он был неплохой, отходчивый, но капризный как ребенок, в общем, артист. В каком-то городе что-то не заладилось; воды горячей нет, дубленок на базе универмага не дали. В два часа ночи мне позвонил артист и сказал, что хочет апельсинов из Марокко. Мы находились в Челябинске зимой, и в Марокко о желаниях звезды никто не догадывался. Я вяло возразил, что в два часа ночи и яблоко не найду, но ответ был не принят. Я начал работать по заданной теме: поднял полгорода, и где-то часа в четыре мне привезли две сетки по четыре апельсина. Я понес эту драгоценность, проклиная любителя экзотики. Он ждал, я положил на стол товар и собрался идти спать, но был остановлен замечанием, что апельсины какие-то вялые. Я забрал их со стола и пошел в ванную для санобработки; помыл их слегка, помочился на них и сложил их в блюдо на столе. Больше я с артистом не работал, ушел на вольные хлеба и стал продюсером фестивалей. Работа на артиста, где он твой непосредственный начальник, — это не для меня. Потом было много всяких историй, но эта, начальная, стала хорошей базой для понимания этой сферы. Нельзя серьезно относиться к людям, изображающим чужую жизнь; их надо или сильно любить, или бежать от них как от чумы.