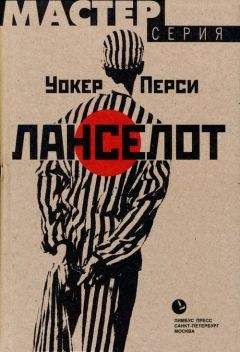Всех главных героев Перси (и, напомним, несомненных протагонистов автора) окружающие считают чудовищами или безумцами, и читателю порой приходится с этим согласиться. Герои Перси совершают странные, нелепые, сумасбродные, а то и отталкивающие поступки. Но в глубине души мы понимаем: они лучше нас. Лучше — и в душевном (в том числе и сугубо психиатрическом) плане здоровее. Во всяком случае, главному идефиксу Ланселота (миром правят не чувства и желания, а корысть и любопытство) нельзя отказать в резонности. Главная беда современного общества в том, что никто не любит ближнего как самого себя, или, по слову русского классика (с которым, поморщившись, согласился бы и американский классик Перси), «человек человеку бревно».
Для первого предуведомления, пожалуй, достаточно. Перед вами великолепная философская проза практически с детективным сюжетом, пересказывать который я не стану, и с мифологическими аллюзиями, которые каждый — как в прозе того же Набокова — волен узнавать и интерпретировать в меру собственного разумения.
Знакомьтесь: Уокер Перси.
Виктор ТопоровТак глубока была его беда,
Что дать ему спасенье можно было
Лишь зрелищем погибших навсегда…
Данте. Чистилище. Песнь XXX (136–138)[1]
Казалось бы, события романа разворачиваются в Новом Орлеане и на Ривер-роуд, но названия как города, так и этого знаменитого приречного шоссе используются лишь для обозначения вымышленного пространства. Ривер-роуд не ведет к округу Фелисьен. Да и округа такого уже давно нет. Не существует и Английской излучины. Есть Английская коса, но она находится ниже по течению от Нового Орлеана, а не выше. Счастливая улица действительно пересекает улицу Благовещенья, однако кладбище Лафайетт довольно далеко от этого перекрестка. Кладбище Лафайетт существует, но рядом с ним нет ни тюрем, ни больниц, ни дамбы. На Ривер-роуд в самом деле происходили убийства и поджоги, но, насколько мне известно, ни одно из них не напоминало тех, что здесь описаны. Никогда не было и особняка под названием «Бель-Айл». Усадьба, называвшаяся «Нортумберленд», и впрямь была в свое время в Западной Флориде, но она давно исчезла. К тому же ни один из персонажей никак не соотносится с реальными людьми, ни с живыми, ни с усопшими.
Заходите. Устраивайтесь. Можете взять стул — я сяду на койку. Нет? Не хотите? Предпочитаете стоять у окна? Я понимаю. Вам тоже нравится мой маленький пейзажик. Вы никогда не обращали внимания — чем меньше окошко, тем больше из него видно. Здесь я впервые понял, как старухи могут годами просиживать на крылечке.
Мы не представлены? Но ваше лицо кажется мне знакомым. Я довольно тяжело болел, поэтому память мне изменяет. Думаю, потому я здесь и нахожусь, а может, из-за того, что совершил преступление. Впрочем, вполне возможно и то, и другое. Я даже не знаю, тюрьма это или больница. Ах, это Центр помощи страдающим девиациями поведения? Вот оно что. Порой я действительно вел себя кое-как. Стало быть, я в психушке.
Не могу избавиться от ощущения, что мы знакомы и к тому же знакомы близко. Дело не в том, что я сумасшедший и ничего не помню, просто мне не кажется, что прошлое стоит вспоминать. На это уходит слишком много сил. Всё требует огромных усилий, хотя и яйца выеденного не стоит, — всё, кроме того, чтобы сидеть в этой каморке и глядеть на скудный пейзаж, открывающийся из окна.
Хотите верьте, хотите нет, но эта комнатушка — не важно, камера тюрьмы или что-то иное — не самое плохое место, чтобы скоротать годик. Думаю, год я здесь уже прожил. Может, два. Может, месяцев шесть. Точно сказать не могу. Высокий потолок, койка, стул, стол, очень чистенько. Еда сносная, к тому же здесь не бывает слишком холодно, слишком жарко или слишком сыро. Если это тюрьма, то она прекрасна! А если больница — тоже всем на зависть. Я уже не говорю про вид, открывающийся из окна, даже если это всего лишь клочок неба, огрызок кладбища Лафайетт, кусочек дамбы и небольшой отрезок улицы Благовещенья.
Ведь это все, что вы видите, не правда ли? А вы приглядитесь. Тогда увидите больше. Я знаю этот мирок наизусть и могу, не сходя с места, показать вам кое-что, чего вы наверняка не заметили. Например, если вы встанете поближе к окну и будете смотреть от самого левого краешка проема, то сможете увидеть часть вывески за углом. Прижмитесь виском к кирпичам, и вы различите буквы:
Бесплатный и
Ма
Б
Чувствуете, как ни старайся, больше не увидишь. Я уже год смотрю на эту вывеску. Что она означает? Бесплатный и спокойный маленький боулинг? Или бесплатный и уютный масонский бар? Есть у масонов бары?
Память медленно возвращается. Думаю, вы имеете к этому какое-то отношение. Стоило мне увидеть вас вчера в коридоре, как сразу я понял, что мы были знакомы, и довольно близко. Разве не так? Прошло много лет, вы сильно изменились, но это не помешало мне вспомнить вас.
Когда мы встретились глазами, я почувствовал, что вместе мы прошли огонь и воду, или нет? К тому же у меня возникло ощущение, что вы знаете гораздо больше, чем я. Вы было открыли рот, чтобы что-то сказать, но потом передумали. Я чувствую себя алкоголиком, который некоторых людей узнает лишь будучи пьяным. А вы, вроде как дружок этого пьянчужки, настолько тактичный, что иногда не очень-то стремитесь быть узнанным.
Да, я вас пригласил. Вы психиатр или священник? Может, священник-психиатр? Если честно, вы напоминаете мне что-то между — какого-нибудь неудавшегося святошу, который ринулся на поприще общественного призрения и «психоанализа»; или врача, внезапно рванувшего в семинарию. Ни рыба ни мясо. Если вы священник, почему не носите сутану поверх этих невразумительных одежд? Вот уж ума палата. Вроде тех монахинь, которые не понимают, что монашеское платье идет им больше, чем брючные костюмы от Версаче.
Вы — первый человек, которого мне захотелось увидеть. Я отказывался от всех психиатров, священников, сеансов групповой терапии и прочей дребедени. О чем с ними говорить? Мне им сказать нечего, и уж совсем меня не интересует то, что скажут они.
Именно это мне в вас и важно: вы единственный человек здесь, который не рвется болтать. Это, а еще ваш отсутствующий взгляд, в котором я улавливаю намек на некоторую родственность наших душ. Это, да плюс еще, что мы были знакомы, и вы явно знали меня куда лучше, чем я вас.
Что? Да, конечно, я помню Бель-Айл и ту ночь, когда этот дом сгорел, помню трагедию, смерти… Но, думаю, мне рассказывали об этом или, может, даже просто показывали газеты.
Но вы… Вас я действительно припоминаю. Мы ведь довольно близко друг друга знали, не так ли? Понимаете, у меня была затяжная депрессия, я пребывал в сумеречном состоянии и лишь недавно научился получать удовольствие просто оттого, что живу в этой каморке и иногда любуюсь видом из окна. Встреча с вами показалась мне вчера встречей с самим собой. Что-то нахлынуло на меня — прошлое? или я сам? Стоило мне увидеть эту вашу язвительную мину, как я тут же все вспомнил и даже не удивился. Я даже понял, что вы собирались сказать, когда открыли рот, покачали головой и промолчали. Все то же ваше обычное: «Бог мой, Ланс, что ты опять выкинул, что натворил?» Или что-нибудь в этом роде. Правда?
Потом, позже вечером, я сообразил: надо же, ведь я без подсказок, сам это вспомнил. Свое имя — Ланс. На самом деле я вспомнил, как вы когда-то любили произносить его полностью — Ланселот Эндрюс Лэймар. «Ты назван в честь великого святого англиканской церкви. Так, может, твое имя должно звучать как Ланселот Озёрный, сын Бана, короля Бенвикского?»[2]
Мне показалось, что я вспомнил все, только никак не могу на этом сосредоточиться.
Вряд ли вы здешний пациент, но что-то с вами не в порядке. Как-то вы рассеянны. Может, влюбились?
Улыбаетесь. Улыбаетесь и ничего не говорите. Что? Вам пора? Придете завтра?
Входи-входи. Или по-прежнему не хочешь?
Хотелось бы кое в чем признаться. Вчера я был не совсем честен, когда сделал вид, что не узнал тебя. Еще как узнал. Забывчивостью не страдаю. Просто не люблю вспоминать. Но уж тебя-то почему бы мне не вспомнить? Мы были лучшими друзьями, можно сказать не разлей вода, если припоминаешь. Просто наша встреча, когда прошло столько лет, потрясла меня. Нет, даже не так. Дело в том, что я еще позавчера узнал тебя, когда ты шел через кладбище. Все равно же я не знал, что сказать. Что можно сказать после двадцатилетней разлуки, когда все уже сказано?
Тебя это тоже смущает, не так ли? Скованно держишься. Но я чувствую, тебе нравится вид из окошка.
Что ты так смотришь? Сомневаешься в моем здравомыслии? Ну конечно, все-таки я в психушке. Но я отлично тебя помню, помню все твои прозвища и всё, чем мы занимались. В зависимости от смутных и переменчивых обстоятельств нашей жизни, да и от того, что мы в данный момент читали, мы по-разному называли друг друга. Спорим, я лучше тебя помню эти прозвища. Сначала, когда вы жили рядом с нами на Ривер-роуд в Нортумберленде и мы вместе ходили в школу, тебя звали просто Гарри. Потом к этому имени прибавилось прозвище Сорвиголова, что было явной натяжкой, так как, несмотря на драчливость, бойцом ты был никудышным. Затем тебя стали звать Королем Блядовиком, поскольку довольным тебя видели, похоже, только в борделях. А еще Нортумберлендом, в честь дома, в котором вы жили. А также Парсифалем,[3] который нашел Святой Грааль и вернул жизнь мертвой земле. Кроме этих в студенчестве у тебя было еще несколько шутливых прозвищ, иногда неприличных, и самым невинным из них было Пися. Мисс Маргарет Мей Макдауэлл из «Союза Душистой Розы», познакомьтесь с моим другом и соседом по комнате Писей. Позднее, когда ты стал священником, ты, помнится, принял церковное имя Иоанн — хорошее имя. Только вот в честь кого — любвеобильного апостола Иоанна или отшельника Иоанна Крестителя? В то время ты, скорее, был отшельником.