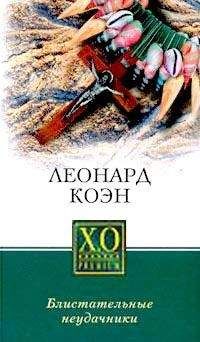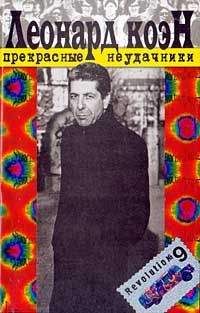Ф. тогда провел со мной всю ночь. В четыре утра он признался, что за двадцать лет знакомства с Эдит раз пять-шесть с ней переспал. Да, забавно!
Мы заказали кур в ближайшей забегаловке, а потом перемывали кости моей несчастной, размазанной по полу шахты лифта жене, пальцы наши были все в жире, соус барбекю капал на линолеум. Раз пять или шесть – это же просто так, по дружбе. Мог ли я тогда взойти на священную гору житейской мудрости, стоящую где-то за тридевять земель, и с ее высоты благодушно кивать своей китайской головой, взирая на их почти невинный роман? Разве звезды от него померкли?
– Ты, тварь паскудная, – спросил я, – так сколько же раз – пять или шесть?
– Да, – улыбнулся Ф., – горе требует от нас определенности!
Итак, да будет вам известно, что ирокезы, братья Катерины Текаквиты, получили свое ирокезское название от французов. Сами себя они величали ходеносаунее, что значит «народ длинного дома». Они умудрились ввести беседу в новое измерение. Все свои речи они завершали словом upo, что значит: «Как я сказал». Тем самым каждый брал на себя полную ответственность за вторжение в невнятный шепот сфер. К слову upo они добавляли и слово кг – возглас огорчения и радости, в зависимости от того, выли они или пели. Так эти люди силились пронзить таинственный покров, окутывавший всех говорящих мужчин: в заключение каждого высказывания говорящий как бы немного отступал назад и пытался доходчивее донести истинный смысл своих слов до слушателя, звуком подлинной эмоции восторжествовать над мнимостью обманчивого разума. Катерина Текаквита, поговори со мной на иро-ке. Я не вправе возражать тому, что иезуиты внушают рабам, но в ту прохладную ночь в Лорентидах [5], которая не идет у меня из головы, когда мы были окутаны корпусом берестяной ракеты, уносившей нас по древнему, извечному пути тела к духу, я задал тебе все тот же не дававший мне покоя вопрос: все ли еще звездочки такие малюсенькие? О Катерина Текаквита, ответь же мне на ироке! А в ту, другую, ночь мы часы напролет собачились с Ф. Мы не знали, наступило уже утро или нет, потому что единственное окно того убогого жилища выходило в трубу вентиляции.
– Ты, тварь паскудная, так сколько же раз – пять или шесть?
– Да, горе требует от нас определенности!
– Пять или шесть, пять или шесть, пять или шесть?
– Слушай, дружок, лифт снова заработал.
– Слушай, Ф., хватит с меня дерьма твоего мистического.
– Семь.
– Семь раз с Эдит?
– Верно.
– Ты хочешь, чтобы мне полегчало от твоего вранья во благо?
– Точно.
– Значит, семь – это только одна из возможностей?
– Именно так.
– Ты что, врешь мне из сострадания? Или ты думаешь, Ф., я сам могу догадаться, где в куче твоего дерьма спрятаны бриллианты?
– Там все – бриллианты.
– Черт бы тебя драл, тварь паскудная, от такого ответа мне не легче. Ты все изгаживаешь своими замашками святоши. Плохое выдалось утро. Жена моя в таком виде, что ее и похоронить толком нельзя. Они ее по кусочкам складывать будут в каком-нибудь морге вонючем. Как я теперь себя в этом лифте чувствовать буду, когда мне в библиотеку идти понадобится? На хрен мне все это твое дерьмо бриллиантовое, заткни его обратно в свою задницу оккультную. Помоги лучше человеку из беды выбраться. Не надо за него его жену трахать.
Разговор этот перетек в скрытое от наших взглядов утро. Он все гнул свою бриллиантовую линию. Мне хотелось ему поверить, Катерина Текаквита. Мы говорили с ним до полного изнеможения, а потом стащили друг с друга шмотки, как делали это, когда были еще детьми, в центре города, на месте которого когда-то стоял дремучий лес.
Ф. много говорил об индейцах, причем делал это с бесившим меня высокомерием недоучки. Насколько мне известно, он никогда всерьез этими вопросами не занимался, все сведения, которыми он располагал, были почерпнуты из пренебрежительного, весьма поверхностного знакомства с моими книгами, скабрезной истории его похождений с моими четырьмя девочками-подростками а… и нескольких сотен голливудских вестернов. Сравнивая индейцев с древними греками, он говорил о сходстве их характеров и сходстве представлений о том, что каждый талант должен проявлять себя в борьбе, о страсти к схваткам и имманентной неспособности тех и других к длительному сохранению единства, об абсолютной преданности идее соперничества и добродетельности амбиций. Ни одна из девочек-подростков а… не достигла с ним оргазма, что, по его словам, служило свидетельством сексуального пессимизма всего племени. На основании этого он делал вывод о том, что любая индеанка из другого племени без труда могла бы его с ним достичь. Мне трудно было с ним спорить. Странное дело, действительно, создается впечатление, что а… как бы рушат стереотипные представления о других индейцах. Выводы, к которым он приходил, возбуждали во мне ревность. Его представления о Древней Греции основывалось исключительно на стихотворении Эдгара Алана По, имевших место гомосексуальных связях с владельцами ресторанов (он мог бесплатно поесть почти у каждой стойки с бутербродами и газированной водой в городе) и гипсовом макете Акрополя, который по неведомой мне причине был покрыт красным лаком для ногтей. Сначала он хотел покрыть его бесцветным лаком, чтобы защитить гипс от разрушения, но когда в аптеке подошел к прилавку с косметикой, который высился как неприступная крепостная стена с бастионами, уставленными флакончиками всех цветов и оттенков, чем-то напоминавшими миниатюрные фигурки королевских конных полицейских, он не смог устоять перед охватившим его пламенным желанием. Его пленил цвет под несуразным названием «тибетская страсть», поскольку, как он верно заметил, в этих словах крылось явное противоречие.
Всю ночь Ф. красил красным лаком свою гипсовую модель, а я сидел рядом и смотрел, как он работает. Он бурчал себе под нос отрывки из «Великого лжеца» – песни, которой предстояло изменить всю поп-музыку нашего времени [6]. Я не мог отвести глаз от крошечной кисточки, которой он самозабвенно орудовал. От белого – к порочно-красному, колонна за колонной, переливание крови в молочно-белые руинные пальцы миниатюрного памятника. Ф. сказал:
– Я несу свое сердце как корону.
А они все исчезали – лепрозные метопы [7], триглифы [8] и другие витиевато названные завитушки, символизирующие непорочность; пурпурный глянец губил бледный храм и разрушенный алтарь. Ф. сказал:
– Вот здесь, дружок, докончи кариатиды.
И я взял кисточку, как Клитон вслед Фемистоклу. Ф. напевал:
– Ох-ох-ох-ох-о, я великий лжец, по-другому не могу, слишком часто людям лгу… – и так далее. При создавшихся обстоятельствах вполне уместная песенка и отнюдь не лишняя.
Ф. часто говорил:
– Всегда смотри в глаза очевидному.
Мы были счастливы! С чего бы мне противиться этой истине? Я не был так счастлив с самого детства. А ведь только что я чуть было не предал счастье той ночи! Нет, не буду я этого делать! Как только мы покрыли лаком каждый дюйм старого гипсового скелета, Ф. поставил его на журнальный столик перед окном. Солнце уже золотило ребристую крышу стоявшей по соседству фабрики. Окно чуть порозовело, и наша еще не обсохшая поделка сверкала, как огромный рубин, как какая-то фантастическая драгоценность! Она представилась мне замысловатой колыбелькой, в которую я мог бестрепетно уложить те немногие высокие бренные чувства, которые мне еще удавалось сохранять. Ф. растянулся вниз брюхом на ковре, уткнул подбородок в ладони согнутых рук, локтями упертых в пол, и уставился на красный акрополь в мягком свете занимавшейся за ним зари. Он кивнул мне, приглашая лечь рядом.
– Взгляни на него отсюда, – сказал он, – скоси немного глаз.
Я последовал его просьбе, сощурил глаза и – акрополь вспыхнул чудесным холодным огнем, рассылавшим во все стороны лучи (только не вниз, где стоял журнальный столик).
– Не плачь, – сказал Ф., и мы начали разговор. – Вот так, должно быть, он выглядел ранним утром и для них, когда они на него смотрели.
– Древние афиняне? – прошептал я.
– Нет, – буркнул Ф., – древние индейцы, краснокожие.
– Разве у них такое было? Они что, акрополи строили? – спросил я, потому что у меня из головы все начисто вылетело, пока я мазок за мазком наносил маленькой кисточкой. Теперь я был готов поверить чему угодно. – Скажи, Ф., неужели индейцы строили такие сооружения?
– Не знаю.
– Тогда о чем ты толкуешь? Или ты держишь меня за полного идиота?
– Ложись, не бери в голову. Лучше возьми себя в руки. Разве ты не счастлив?
– Нет.
– Почему ты позволил себя обобрать?
– Ф., ты все испортил. У нас такое чудесное утро выдалось.
– Почему ты позволил себя обобрать?
– Зачем ты все время норовишь ткнуть меня мордой в грязь? – спросил я настолько серьезно, что сам испугался.