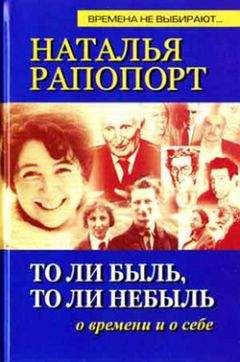А сегодня мы сидели и рассматривали эти снимки. Их было невероятно много.
Среди наиболее старых мне запомнились фотографии Терезы Кавильери, погибшей супруги Фила.
– Дженни очень на нее похожа, – заметил я.
– Да, она была такая красивая, – вздохнул он.
Где-то между совсем детскими фотографиями Дженни, до того, как она надела брекеты, фото Терезы попадаться перестали.
– Я должен был заставить ее остаться дома в тот вечер, – сказал Фил, словно та злосчастная авария произошла только вчера.
– Как тебе удалось с этим справиться? – спросил я. – Как ты сумел все это вынести?
Конечно, этот вопрос я задал из эгоистической надежды, что сейчас услышу рецепт, который немедленно поможет и мне.
– А кто сказал, что я справился? – ответил Фил. – Но у меня ведь была дочь…
– О которой надо было заботиться…
– Которой пришлось заботиться обо мне… – поправил он меня.
И он поведал мне все… Как Дженни приложила все усилия, чтобы помочь ему и облегчить боль. Как ему пришлось позволить ей научиться готовить самостоятельно. И как, что еще страшнее, ему пришлось есть ее первые кулинарные изыскания, приготовленные по рецептам из буклетов. А еще как Дженни настояла на том, что Филу не стоит пропускать походы с друзьями в боулинг по средам. В общем, как Дженни сделала все, чтобы он был счастлив.
– Тогда почему ты так и не женился снова, Фил? – спросил я.
– Что? – не понял Фил.
– Из-за Дженни?
– Господи, да нет, конечно! Наоборот, она меня просто изводила настойчивыми просьбами жениться. Даже сватать пробовала.
– Дженни?
– Да она пыталась сбыть меня каждой подходящей американке итальянского происхождения от Крэнстона до Потакета.
– И что, среди них были одни старые девы? Никого достойного? – поинтересовался я.
– Почему? Некоторые были вполне ничего, – удивил он меня. – Например, ее учительница английского, мисс Ринальди…
– Правда?
– О да, она была очень даже ничего. Мы встречались довольно долго. Сейчас она замужем. Трое детей.
– Ты просто не был готов, Фил, да?
Он посмотрел на меня и покачал головой:
– Эх, Оливер… Даже если и так, очень самонадеянно с моей стороны было бы рассчитывать, что Всевышний даст мне второй раз то, чего у многих не было вовсе.
И он отвернулся, судя по всему, жалея, что сказал правду…
…На Новый год Фил буквально запихнул меня в поезд и отправил домой.
– Ты обещал, что вернешься к работе! – напомнил он мне на перроне.
– Ты тоже, – парировал я.
– Поверь мне, Оливер, это на самом деле помогает! – крикнул мне Фил на прощание. И поезд тронулся.
…Фил был совершенно прав. Погрузившись с головой в проблемы других людей, я смог, наконец, выплеснуть все свое негодование – мне казалось, что где-то там, в небесной канцелярии, меня просто-таки подставили.
И вот теперь я собирался восстановить справедливость. Поэтому стал уделять больше всего внимания делам о судебных ошибках. И боже мой, сколько же сорняков я обнаружил в этом прекрасном саду!
Первое время мне очень помогало дело «Миранда против штата Аризона» (384 U.S. 436) – я оказался буквально по уши в работе. Дело в том, что Верховный суд давно уже признал право потерпевшего хранить молчание, пока ему не предоставят адвоката. И я просто озверел от количества народу, которые бездумно прошляпили такую возможность и из-за этого загремели в тюрягу.
В числе этих остолопов был и Ли Рой Сиджер. К моменту, как я получил его дело, парень был по уши в дерьме: его упекли в тюрьму на основании собственноручно подписанного признания, которое полицейские умело (хотя и законными методами – не придраться!) вытрясли из него, утомив парня длительным допросом. К тому времени, когда он подписывал бумагу, в его голове, видимо, была лишь одна мысль – наконец ему дадут поспать.
Мы потребовали пересмотра его дела – прецедент «Миранды» нам в помощь. Процесс стал одним из самых крупных за всю историю Нью-Йорка. Конечно, мы вышли победителями!
– Спасибо, мужик, – поблагодарил меня Ли Рой и принялся целовать плачущую от счастья жену.
– Не за что, – ответил я, вставая с места. Разделить его счастье у меня не получалось – у Ли Роя Сиджера, в отличие от меня, хотя бы была жена. Мир был полон тех, кого мы, юристы, между собой называли «чокнутыми». Такими, как Сэнди Уэббер. Этот юнец уже длительное время сражался с призывной комиссией. И процесс, похоже, затягивался. Дело в том, что Сэнди не мог предоставить никаких доказательств того, что именно «глубокая и искренняя вера», а не обыкновенная трусость мешают ему служить в армии. Квакером он не был и, несмотря на весь риск, уезжать в Канаду не хотел. Чего он хотел, так это чтобы суд признал его право жить по своим убеждениям. Сэнди был хорошо воспитан и встречался с девушкой, которая чертовски за него боялась: один из их знакомых уже мотал срок в Льюисбурге, и она вдоволь наслушалась рассказов обо всех ужасах заключения. «Давай уедем в Монреаль!» – умоляла она. Но Сэнди был непреклонен: «Нет. Я останусь и буду драться!»
Мы дрались. И проиграли. Потом подали апелляцию. И выиграли. Счастливчик Сэнди получил право отбывать врачебную практику в госпитале вместо службы в армии.
– Вы их сделали! – Он и его девушка поочередно душили меня в объятиях.
– Продолжайте в том же духе, – сказал я и двинулся на битву с очередным драконом. Случайно обернувшись, я увидел, как они танцуют от счастья прямо посреди улицы. Эх, а я ведь не мог даже просто улыбнуться…
Да, я был очень зол на весь мир. Работал допоздна – насколько было возможно. Офис покидать не хотелось, ведь дома все в той или иной степени напоминало о Дженни: пианино, ее книги, мебель, которую мы покупали вместе. Да, время от времени появлялась мысль, что неплохо было бы переехать. Но я возвращался домой настолько поздно, что в переезде не было особого смысла. Постепенно я привык ужинать в одиночку в тишине кухни, а бессонными ночами слушать пластинки. Только в кресло Дженни не садился никогда. Мне даже почти удалось заставить себя ложиться спать в нашу такую пустую кровать.
Так что я почти перестал думать о том, чтобы переехать.
Пока не открыл дверь.
Дверь шкафа Дженни, который я упорно обходил в течение долгого времени. И с какой-то дури все же открыл дверцу! Там были ее вещи. Платья, юбки, шарфы. Ее свитера – даже заношенный до дыр школьный свитер, который она наотрез отказывалась выкинуть и носила дома.
Все это здесь – а Дженни нет. Я так никогда и не вспомнил, какие мысли пронеслись в моей голове, когда смотрел на эти шелковые и шерстяные воспоминания. Наверное, думал, что, если дотронусь до этого древнего свитера, смогу почувствовать частичку живой Дженни.
Я закрыл шкаф и больше никогда его не открывал.
А через две недели приехал Фил, тихо упаковал все и увез. Кажется, он отдал их какой-то католической организации, помогающей бедным. Перед тем как сесть в свой грузовичок, он сказал:
– Я к тебе больше не приеду, пока ты не сменишь жилье.
Смешно, но уже через неделю после этого я нашел новую квартирку. Так как в Нью-Йорке окна первого этажа забирают стальными решетками, мое новое жилище напоминало тюремную камеру, которая располагалась на нижнем этаже обители какого-то богатого продюсера. Роскошная, украшенная золотом дверь его квартиры находилась этажом выше, так что меня миновали толпы народу, стекавшиеся со всего города на его безумные оргии. Кроме того, отсюда было ближе до офиса и всего полквартала до Центрального парка. Определенно, все указывало на быстрое и неминуемое исцеление.
…Но, несмотря на новую обстановку с новыми обоями и новой кроватью и несмотря на друзей, которые теперь чаще говорили: «Ты выглядишь намного лучше!», одну вещь я все же сохранил в память о Дженни.
В нижнем ящике письменного стола хранились ее очки. Обе пары ее очков. Они напоминали мне о любимых глазах, которые смотрели на меня. И видели насквозь.
Но в остальном, что подтверждали наблюдения друзей, я выглядел просто великолепно.
– Привет, я Фил. Я пеку булочки.
Это было подано так, словно булки для него хобби, а не способ заработать на жизнь.
– Привет, Фил, я Джейн. У тебя симпатичный приятель, – заявила девушка за столиком.
– Про твою подружку могу сказать то же, – произнес Фил таким светским тоном, как будто всю жизнь только и занимался, что подобными пустыми беседами.
Этот праздник красноречия проходил в «Изюминке Максвела», вполне себе уютном баре для холостяков, на углу 64-й и 1-й. На самом деле он назывался «Виноградинкой Максвела», но мой закоренелый цинизм быстро засушил плоды чужого оптимизма. Короче, я с первого взгляда невзлюбил это заведение и всех этих самодовольных красавчиков с их идиотской счастливой болтовней. И неважно, будь они хоть миллионерами, хоть литературными критиками. А хоть и настоящими холостяками.