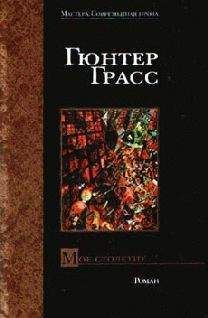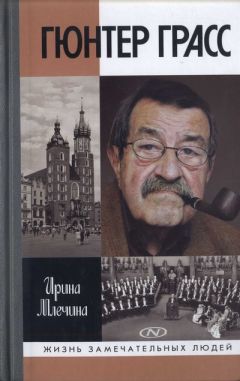– Как то бывает, доктэр, мои молочные зубы хранились долго, ведь то, что было однажды спасено, теряется снова не так скоро…
– Не будем обманывать себя: от зубного камня средств нет…
– Когда сын стал искать родителей, ему доставили брезентовый мешок…
– Поэтому сегодня одолеем зубной камень, врага номер один…
– И каждой девушке, предполагавшей во мне будущего жениха, доводилось видеть мои спасенные молочные зубы…
– Ведь инструментальное удаление зубного камня входит априори в любое лечение…
– Но не каждая девушка находила молочные зубы Эберхарда красивыми и интересными…
– Сейчас начали работать ультразвуком. Сполосните.
Досадный, как я подумал было, врез, ибо с помощью спасенных молочных зубов мне почти удалось заманить на экран мою бывшую невесту и начать (как я и сейчас хочу начать наконец свои жалобы), но мой врач воспротивился: рано.
Пока я истово полоскал рот, он развлекал меня историческими анекдотами. Он рассказал о некоем Скрибонии Ларге,[2] изобретшем для Мессалины, первой жены императора Клавдия, зубной порошок: жженый олений рог плюс хиосская смола и аммиачная соль. Когда он признал, что уже у Плиния толченые молочные зубы упоминались как порошок, приносящий удачу, у меня в ушах снова прозвучали слова моей мамы: «Вот, деточка, я положу их тебе на зеленую вату. Пусть это будет тебе на счастье…»
Что значит суеверие! В конце концов, я вышел из семьи моряков. Мой дядя Макс остался на Доггерской банке.[3] Мой отец пережил «Кенигсберг»[4] и до самого конца эпохи вольного города работал лоцманом. А меня мальчишки сразу прозвали Штёртебекером. Я до конца оставался их вожаком. Мооркене приходилось быть второй скрипкой. Из-за этого он хотел разрушить нашу банду. Но я этого не допускал: «Послушайте, ребята…» Не допускал до тех пор, пока наша лавочка не погорела, потому что этот мозгляк настучал. Надо бы как-нибудь все выложить, все по порядку, как было на самом деле, пустить на экран. Но не с обычными ухищрениями для занимательности – «Взлет и падение банды Штойбера», – а скорее научно, аналитически: «Молодежные банды в Третьей империи». Ведь никто еще до сих пор не заглядывал в дела эдельвейсовских пиратов, хранящихся в подвале Кёльнского управления полиции. («Как по-вашему, Шербаум? Это должно бы ведь заинтересовать ваше поколение. Нам было тогда по семнадцати, как вам сегодня семнадцать. И нельзя не заметить определенных общих черт – отсутствие собственности, девушка, принадлежащая всей группе, полное неприятие всех взрослых. Да и преобладающий в 12-а жаргон напоминает мне наш рабочий жаргон…») Тогда была, однако, война. Речь шла отнюдь не о местах для курения и подобных ребячествах. (Когда мы обчистили хозяйственное управление… Когда мы подобрались к боковому алтарю церкви Сердца Господня… Когда мы на Винтерфельдской площади…) Мы оказывали настоящее сопротивление. С нами никто не мог справиться. Пока нас не выдал Мооркене. Или эта заборная жердь с ее зубами-резцами. Надо было их самим заложить. Или строгий запрет: никаких баб! Между прочим, тогда я носил на груди в мешочке свои молочные зубы. Каждый, кого мы принимали, должен был клясться моими молочными зубами: «Ничто изничтожается непрестанно». Следовало бы их принести: «Видите, доктэр, вот как быстро все идет. Вчера еще я был главарем молодежной банды, которой боялись в рейхсгау Данциг – Западная Пруссия, а сегодня я уже штудиенрат, учитель немецкого языка и, значит, истории, которому хочется уговорить своего ученика Шербаума отойти от юношеского анархизма: „Вам надо взяться за ученическую газету. Ваш критический дар нуждается в орудии". Ведь штудиенрат – это тот же, только с обратным знаком, вожак банды – если вы возьмете меня мерилом – ничто так не донимает, как зубная боль, зубная боль уже несколько недель…»
Врач объяснял мою хоть и терпимую, но все-таки длительную боль неправильным строением челюсти: из-за этого ускорялась усадка десен и обнажались чувствительные шейки зубов. Когда очередной его анекдот не произвел на меня особого впечатления – «Плиний рекомендовал такое средство от зубной боли: насыпьте себе в ухо пепла от черепа бешеной собаки», – он указал через плечо своим скребком: «Может быть, лучше бы телевизор…» Но я настаивал на боли: сплошной крик. Жалоба, которую никак нельзя отложить. («Простите, пожалуйста, если я рассеян».)
Мой ученик вел свой велосипед через кадр: «Вы носитесь со своей зубной болью. А что произошло в дельте Меконга?[5] Вы это читали?»
– Да, Шербаум, я это читал. Скверно. Скверно-прескверно. Но должен признать, что это дерганье, этот сквозняк, направленный всегда на один и тот же нерв, эта локализуемая, не то чтобы отчаянная, но топчущаяся на одном месте боль изводит, терзает и разоблачает меня больше, чем сфотографированная, необозримая и все же абстрактная, потому что не задевает моего нерва, мировая боль.
– Это не злит вас, не печалит хотя бы?
– Я часто пытаюсь печалиться.
– Вас она не возмущает, эта несправедливость?
– Я стараюсь возмутиться.
Шербаум исчез. (Он поставил велосипед в сарай.) Мой врач возник с соответствующей комнате громкостью:
– Если будет больно, пожалуйста, дайте тихонько знак.
– Дергает. Да. Вот здесь спереди дергает.
– Это ваши обнаженные, покрытые камнем шейки зубов.
– Боже мой, как дергает.
– Потом примем арантил.
– Можно сполоснуть, доктэр, быстренько сполоснуть?
(И попросить прощения. Никогда больше не буду…) Теперь я слышал уже свою невесту. «Носишься со своей болью. Обидно слышать при прощании. Скажи мне номер своего счета, и я переведу тебе пластырек. Тебе же причитается рента. Начни что-нибудь новое. Подкорми свое хобби – орнаменты кельтских надгробий».
(Прочь от плевательницы к базальтовому карьеру на Майенском поле. Нет, мерцает она на кладбище в Круфте. Или это склад пемзы, и она среди пустотелых строительных блоков…) «Приноси пользу. Держу пари, из тебя получится первоклассный учитель…»
(Не пемза: Андернах. Ветреный променад у Рейна. Считать обкорнанные платаны между бастионом и автомобильным паромом. Взад-вперед со сводящими счеты словами.)
«Сколько педагогики вылил ты на меня по капле? Не грызи ногти. Читай медленно и систематически. Резюмируй, прежде чем отвлечешься. Пичкал меня Гегелем и этим своим Марксэнгельсом…»
(Неподвижная козья мордочка, из которой поднимаются пузыри текста, битком набитые осколками зубного камня, галькой памяти, щебенкой ненависти. Ах, Лойс Лейн![6])
– Я взрослый человек. Я освободилась от тебя. Освободилась наконец. Ты зануда, неудачник, трус!
(А за говорящей машиной движение, вниз по реке – вверх по реке: пых-пых!)
– Ты был хороший, немного плаксивый учитель.
(На правом берегу Рейна Лейтесдорф с двугорбым, черно-бурым от дождя наростом Розенгартена: ох-ох!)
– Направь на что-нибудь свои способности. Брось пемзу и цемент, пока не Поздно. Как ты предпочитаешь получить эти пятнадцать тысяч?
(У подножья нароста: товарные поезда и бегущие автомобили. Движение вовсю старается служить фоном. Слова, слева и справа, минуя меня, выплевываются на пустую террасу гостиницы «Траубе»: плюх-плюх!)
– В рассрочку или одним махом?
(Вот я стою в своем ветрозащитном плаще. Задаток для супермена.)
– Ну, давай уже. Скажи номер своего счета. (Когда-то андернахский бастион был рейнской таможенной крепостью куркёльнских князьков…)
– Возьми это как компенсацию за ущерб и перестань хныкать.
(…Позднее он стал памятником воинам, павшим с четырнадцатого по восемнадцатый. Камера качается. Помощник режиссера уговорил мою невесту покормить чаек: крик-крик!)
Она со мной рассчиталась. И я употребил деньги целенаправленно. Запоздалый студент переменил профессию. Боннский университет – я хотел остаться поблизости от нее – превратил инженера-производственника, специалиста по центробежным фильтрам в стажера, а затем асессора, который стал с прошлой осени штудиенратом, преподающим немецкий язык и историю. «Не лучше ли при ваших знаниях – намекали решившему переквалифицироваться, – избрать специальностью математику?» – И этот, в парусиновых башмаках, тоже отвлекся от моего зубного камня: «Как вы могли, закончив машиностроительный институт, решиться на это? Это же навсегда?»
Я основательно прополоскал рот: если уж переучиваться, то полностью. Ее деньги я не бросил на ветер. Осталось даже ровно три тысячи (которые мне потом пришлось перевести на его счет, потому что больничная касса согласилась оплатить только половину стоимости). Вот чего стоил мне мой прикус. За это я вписался в его полуавтоматическую механику под названием «рыцарь», которая подавала множество инструментов в его умелую ручку, чтобы он… пока я… нет, мы оба в моей головенке, которая рада гостям: «Как по-вашему, доктэр, лучше бы я придержал денежки?»