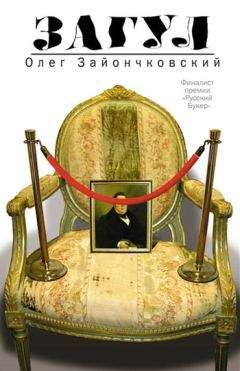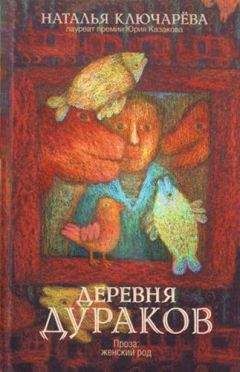И зачем все это перечислять... Сергеев, тебе интересно?
Ладно... Разогнули Петьку в морге, положили в ящик, снесли на кладбище. Серегу проводили в армию. На втором году попал он в Чехословакию. Правильной жизни рос паренек, но из армии вернулся какой-то смурной. Поступил в милицию. Славка уже учился в институте на третьем курсе. В семидесятом, как раз когда Петра выпустили, померла, наконец, баба Настя. Тогда же, кажется, женился Серега, и пришлось делать к дому еще пристройку. Ну и так далее... Набралось их в доме человек пятнадцать, а может, и больше. Тот же хутор, только хозяйство у каждого свое — у каждого свои пироги. Собирались редко — по праздникам, и как соберутся — всякий раз скандал. Степан обожженный нацепит медали и ходит звякает, а Серега бурчит: «Чем хвалишься — ты их освобождал, а они нам нож в спину!» (Это он на чехов насмотрелся.) Славка, аспирант волосатый, приедет из Москвы и щурится на родичей, как на папуасов, а сам нечесаный хуже всякого папуаса. Раз Серегу ментом назвал — и тут же в лоб схлопотал. У баб промеж собой тоже недоразумения. Томка Альбину малахольной считала: «Дожила до старости, а за душой ни гроша — чулки и те драные!» Альбина в ответ обзывала Томку воровкой. Та взвивалась: «Это я-то воровка? Ты воров не видала! Подумаешь, святая непорочная, просто у тебя в библиотеке взять нечего!» Заведутся, и понеслось... Одним только Аньке с Наташкой все было до лампочки: напьются — и давай песни орать. Оторви и брось — они тогда пропитчицами на заводе работали: там мало кто до пенсии вредной доживал, зато платили по триста и спирту было — залейся.
В общем, не сказать, чтобы Калабины между собой ладили. Однако деваться некуда — жили-поживали, покуда не сгорели.
— Сгорели?
— Было дело — как раз на Олимпиаду. Какой-то праздник они отмечали, все собрались. Даже Славка приехал со своей первой, как ее — Ви... Ви... Виолеттой или Викторией. Пожар в частном доме — не приведи Бог. Все деревянное — горит, как порох... Главное — детей успеть вытащить. Выскочили, кто в чем был, обнялись и смотрят, как их родина полыхает. Потом, конечно, переругались: кто виноват, от кого гореть пошло. Все спалили: и пожитки, и сберкнижки, и документы...
— И как же после?
— Да как — «как»... Главное — живы остались. Люди добрые помогли, завод, между прочим, исполком. Сначала по общагам расселили, потом квартиры дали.
— Стало быть, нет худа без добра?
— Наверное...
— А как же тот участок — на Митино?
— А вот, мы как раз до него дошли.
— Ого! Это чей же такой особняк?
— Угадай... Серегин! Сергей Степаныча Калабина.
— Да ну! Он что же, в бандиты заделался?
— Нет, что ты.
— В банкиры?
— Да нет, какой из него банкир... Генерал он.
— Генера-ал... И такой особняк.. Он что — ворует? Взятки берет?
— Насчет этого не знаю, может, и ворует. Но дом они вскладчину построили. Все Кала-бины свои квартиры продали и отгрохали домище. А Степаныч у них главный, он больше всех вложил.
— То есть... не понял... Они что — опять съехались?
— Ну да. Почти все обратно съехались. Опять, конечно, лаются, но потише, чем раньше: у Степаныча не забалуешь.
— И зачем же они съехались, чтобы снова лаяться? Жили бы каждый сам по себе...
— Ну, уж это ты у них спроси.
В любом дворе, квартале любого городка — везде, где собираются стайками лихие пацаны и перепархивают, чиня ежедневный раз-бой, — обязательно среди этих сорванцов выделяется самый отчаянный, самый горластый, самый исцарапанный. Для прохожих собак всегда припасены у него камни, для девчонок — две грязноватые пятерни, а для приятелей — пара твердых беспощадных кулаков. Позже всех удается загнать его ужинать — лишь когда мать совсем сорвет голос, выкликая свое «наказанье»; раньше других он выходит на улицу утром и слоняется по двору в одиночестве, расстреливая из рогатки голубей и кошек. Это он научил остальных мальчишек материться, курить, играть на деньги в битку и карты. Это его была идея поймать в подъезде шестиклассницу Маринку, которая почти не сопротивлялась под гипнозом его жестоких глаз, покуда вся компания рылась жадными ручонками у нее под платьем. Как объяснить, что мальчишеская удаль и сила характера всегда употребляются на бесчинства, а изобретательность — на дерзкие пакости? Скорее всего бесы, загнанные когда-то в стадо свиней и заставившие бедных животных утопиться, сами не утонули, а благополучно здравствуют, переселившись в беспокойные пацаньи тела и питаясь маминым борщом, семечками и ворованными яблоками.
Вовкиному бесу досталось подходящее тело: широкоплечее, широкогрудое, на крепких кривоватых ногах. С детства Вовка-Фофан превосходил сверстников силой и ростом, а в воинственной наглости ему и вовсе не было равных: даже старшие с ним не связывались после того, как он кирпичом разбил голову боксеру Твердову. Учился он, разумеется, плохо — всегда находились занятия поинтереснее: драться со всяким желающим, пить одеколон из столовой ложки, повесить старый гондон на дверях у завучей, залепить историку в лоб огрызком, подсмотреть через зеркальце трусы у старшей пионервожатой... да мало ли что еще. Будучи восьмиклассником, Фофан уложил на лопатки школьного физрука, но изо всех видов спорта предпочитал один — красть лошадей с конефермы в Матренках. Тогда же, в восьмом классе, Вовка начал бриться и всерьез озаботился половым вопросом. Он не утруждался ухаживаньями, а брал свое силой и наглостью: многие девчонки ходили под его адмиральским флагом, правда, к их радости, не подолгу. В друзьях Фофан не нуждался, а только в свите, как акула в эскорте прилипал, и, надо признаться, много таковых находилось среди наших ребят (о чем они впоследствии постарались забыть). Бессменной Вовкиной «шахой» был Борька Филатов, по прозвищу Бобик или Филка. Ему оказывал грозный патрон брезгливое покровительство, ему в туалете оставлял окурки, но и ему же, от нечего делать, перепадали то поджопник, то затрещина. Одних лишь лошадей любил Вовка и никогда их не мучил. В те годы многие озоровали по ночам на конеферме — такая была мода; украденных лошадей находили в городке — загнанных, пораненных. Если Фофан узнавал, чьих рук это дело, то находил и бил виновных безо всякой пощады. Вообще провиниться перед ним было несложно, и редкий нос в округе не познакомился при тех или иных обстоятельствах с его кулаком. Кроме, пожалуй, носа Сергеева, что на первый взгляд могло показаться загадкой, так как Сергеев перед Фофаном не лебезил и не искал с ним короткого дружества. Тем не менее при случайной встрече он удостаивался от Вовки приветствия и благожелательного разговора в таком духе:
— Здорово, паря! Как сам? Никто на тя не нарывается?
— Нет, — отвечал Сергеев, пожимая большую ладонь.
— Хошь, сёдня ночью покатаемся?
— Не хочу.
Сергеев отказывался от великой чести.
— Что так? Ссышь?
— Нет... Лошадей жалко.
— А... — Фофан будто даже смущался. — Ну, как хошь... Ну бывай... Ты это... если тя кто обидит, мне скажи.
Так выходило, что, сам того не добиваясь, Сергеев находился под защитой Вовкиных кулаков. Оценить это ему пришлось позднее, когда их возрасту настала пора «показаться в свете», проще — на танцах.
Танцы... Городок наш тех лет без них не представишь. Только калеки да совершенные маменькины сынки не ходили на танцы. Да и как иначе, если самих фофанов и Сергеевых половина была зачата в кустах после танцев. Конечно, старинные танцульки зы-глядели примитивно. Сейчас молодая собака, гуляя, наткнется в парке на остатки асфальта, проросшего кустами, и недоуменно обернется на хозяина: «Что это?» А это руины того древнего «пятачка», где врыт был стол с радиолой, где два мента торчали под фонарем, всматриваясь в темноту за деревьями, — там, в темноте, словно топоры дровосеков, тюкали кулаки. Девчонки, сбившись в кучки, боязливо жались по урезу асфальта, жались, но приходили сюда каждую среду и субботу...
Разумеется, и на том «пятачке» в парке кто-то «держал шишку», но время не сохранило былинные имена. Ни Фофан, ни Сергеев не застали в действии лесного танц-капища; в их эпоху, тоже, впрочем, ушедшую, танцы бушевали уже в клубе. Это был еженедельный шабаш, которому где и совершаться, как не в поруганной церкви: ее превратили власти в дом поднадзорного досуга. Это потом переосвященная мутовская приходская церковь снова засияла, нарядная, как пирожное, пуская зайчики свежим крестиком, а тогда... Чего только не держала в ее здании советская власть: какую-то заготконтору, скобяной цех, а под конец — прости, Господи, — клуб с танцами. Каково же было слушать этот варварский топот потомственным церковным мышам, пережидавшим лихолетье в ее подвале...
Впоследствии Генка Бок признавал за собой великий грех. Был он тогда гитаристом и вроде как руководителем ВИА «Кварц», отчаянно громыхавшего на клубной сцене. Лихие созвучия оскверняли не только помещение храма, но и всякое мало-мальски искушенное ухо. Тем не менее лабухи почитались тогдашней молодежью подобно жрецам или священным животным. Иногда случалось, что, заигравшись, кто-то из музыкантов падал со сцены, но его тут же водружали обратно бережные руки. Вдохновение их питалось девичьими вздохами, а в большей степени портвейном «Агдам». И только им одним на танцах гарантировалась неприкосновенность, тогда как прочие ходили в клуб на свой риск.