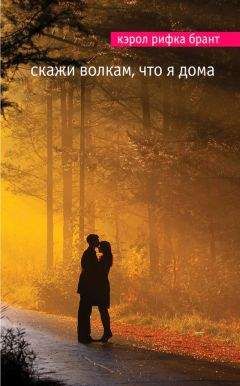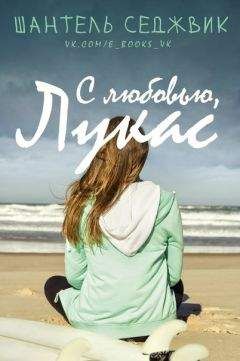Ознакомительная версия.
«Реквием» был нашим с Финном секретом. О нем знали только мы двое. Нам даже не нужно было смотреть друг на друга, когда он поставил диск. Мы оба все понимали. Однажды Финн водил меня на концерт, в красивую церковь на Восемьдесят четвертой улице. Он сказал, чтобы я закрыла глаза и слушала. Так я услышала «Реквием» в первый раз. И сразу влюбилась в эту музыку.
— Она подкрадывается к тебе тихо-тихо, — сказал тогда Финн. — Убаюкивает, усыпляет бдительность, представляется милой, приятной и безобидной, а потом вдруг — та-да-дам! — вздымается грозной волной. Барабанная дробь, и пронзительные крики струн, и глубокие темные голоса. А затем — так же непредсказуемо и внезапно — вновь становится тихой и нежной. Ты понимаешь? Понимаешь, Крокодил?
Это прозвище придумал мне Финн, потому что, как он говорил, я похожа на существо из какой-то другой эпохи, которое таится в засаде, наблюдает и ждет, прежде чем выносить какие-то суждения об окружающем мире. Мне это нравилось. Нравилось, когда Финн меня так называл. Мы с ним сидели в той церкви, и он пытался добиться, чтобы я действительно поняла эту музыку.
— Ты понимаешь? — спросил он снова.
Я понимала. Во всяком случае, думала, что понимаю. Или, может быть, только притворялась. Потому что меньше всего мне хотелось, чтобы Финн считал меня дурой.
В тот день «Реквием» разливался в пространстве среди всех этих безумно красивых вещей в квартире у Финна. Мягкие турецкие ковры. Старый шелковый цилиндр, повернутый к стене залоснившимся боком. Большая стеклянная банка, доверху полная медиаторами всевозможных расцветок. Финн называл их «мои разносолы», потому что они хранились в банке для консервирования. Музыка разливалась по комнате, выплескивалась в коридор, плыла мимо двери в дядину спальню — как всегда, плотно закрытую, не доступную ни для кого. Мама с Гретой, кажется, не замечали, как губы Финна беззвучно выпевают слова — «voca me cum benedictus… gere curam mei fi nis…». Они даже не подозревали, что слушают заупокойное песнопение. И хорошо, что не подозревали. Если бы мама знала, что это за музыка, она бы сразу же ее выключила. Без разговоров.
Чуть погодя Финн повернул холст, чтобы мы с Гретой могли на него посмотреть. Это было событие: раньше Финн не показывал нам, как продвигается его работа. А теперь показал. В первый раз.
— Посмотрите внимательно, девочки, — сказал он. Финн никогда не разговаривал за работой, а когда наконец заговорил, голос его прозвучал слабо и хрипло. Он на секунду смутился, потом потянулся за чашкой с остывшим чаем, отпил глоток и прочистил горло. — Данни, ты тоже… иди посмотри.
Мама не отвечала, и Финн позвал ее снова:
— Поди сюда. На секундочку. Мне интересно узнать твое мнение.
— Попозже! — крикнула мама из кухни. — Я пока занята!
Финн продолжал смотреть в сторону кухни, словно надеясь, что мама все-таки передумает и придет. Когда стало ясно, что она не придет, он нахмурился и снова повернулся к холсту.
Он резко поднялся с кресла — с этого старого синего кресла, в котором всегда сидел перед мольбертом, — поморщился, пошатнулся, ухватился за подлокотник. Постоял пару секунд, потом сделал шаг в сторону, и я увидела, что дядя Финн стал абсолютно бесцветный. Только галстук, повязанный вместо ремня, выделялся зеленым пятном, и весь дядин белый халат разбрызган пятнышками краски. Нашими с Гретой цветами. Мне захотелось вырвать у Финна кисть и раскрасить его, чтобы вернуть его прежнего. Чтобы он вновь стал собой.
— Ну, слава богу, — Грета подняла руки и взъерошила себе волосы.
Я разглядывала портрет. Я заметила, что на картине Финн расположил меня чуть ближе к зрителю, слегка выдвинул мою фигуру на передний план, хотя мы сидели не так. Заметила и улыбнулась.
— Он еще не закончен… да? — спросила я.
Финн подошел и встал рядом со мной. Наклонил голову, рассматривая нас нарисованных. Сначала Грету, потом — меня. Прищурился, глядя прямо в глаза той другой, нарисованной мне. Наклонился так близко к холсту, что едва не коснулся лицом влажных красок, и у меня по руке пробежали мурашки.
— Да, не закончен. — Финн покачал головой, не отводя взгляда с картины. — Видишь? Чего-то не хватает. Возможно, на заднем плане… или, может быть, стоит еще поработать над волосами. Как ты думаешь?
Я медленно выдохнула и расслабилась, не в силах сдержать улыбку. Потом энергично кивнула:
— Мне тоже так кажется. Думаю, нам надо будет приехать еще пару раз.
Финн улыбнулся в ответ и провел бледной бесцветной рукой по бесцветному бледному лбу.
— Да. Еще пару раз, — подтвердил он.
Финн спросил, нравится ли нам портрет. Я сказала, что он прекрасен, а Грета вообще ничего не сказала. Она даже не смотрела на холст. Стояла спиной к нам, держа руки в карманах. Потом медленно обернулась. С абсолютно непроницаемым выражением лица. Грета это умеет. Умеет скрывать свои мысли и чувства. Я не успела сообразить, что сейчас будет, и вот Грета уже вытащила из кармана омелу и вскинула руку. Широким жестом она стремительно провела веткой прямо над нашими головами, словно пыталась рассечь воздух, будто держала в руке что-то более грозное, чем обычную ветку рождественских листьев и ягод. Мы с Финном переглянулись, и у меня внутри все оборвалось. Буквально за долю секунды, пока мы смотрели друг другу в глаза — сколько нужно песчинке в песочных часах или капле воды в протекающем кране, чтобы сорваться и упасть? — Финн все понял. Мой дядя Финн прочел меня, как открытую книгу. Он увидел, что я боюсь, наклонил мою голову и чуть коснулся губами волос у меня на макушке. Так легко, словно бабочка присела на цветок.
По дороге домой я спросила у Греты, можно ли заразиться СПИДом через волосы. Она пожала плечами и отвернулась. И всю дорогу смотрела в окно.
Вечером я вымыла голову, трижды намылив волосы шампунем. Потом сразу легла, закуталась в одеяло и попыталась заснуть. Честно считала овечек, травинки и звезды, но ничего не помогало. Я все время думала о Финне. Как он целовал меня в макушку. Как на долю секунды, когда он склонился ко мне, все остальное исчезло: СПИД, Грета, мама. Остались только мы с Финном, и, прежде чем я успела себя удержать, у меня промелькнула мысль: а что было бы, если бы он поцеловал меня по-настоящему, в губы? Я понимаю, как это противно и мерзко, но мне хочется рассказать правду. И если по правде, в ту ночь я лежала в постели и представляла себе поцелуи Финна. Лежала и думала обо всем, что таилось у меня в сердце, о возможном и невозможном, правильном и неправильном, выразимым словами и совершенно не выразимом. А потом, когда все эти мысли рассеялись, осталась только одна: как плохо мне будет без дяди Финна.
Если хочется притвориться, что ты перенесся в другое время, лучше всего в одиночку пойти в лес. Обязательно — в одиночку. Если с тобой пойдет кто-то еще, ничего не получится. Чужое присутствие все равно будет напоминать, где ты на самом деле. Лес, куда хожу я, начинается за зданиями средней и старшей школы. Он начинается сразу за школьным двором, но тянется на много миль к северу, до Махопака, и Кармела, и еще дальше — я даже не знаю названий тех мест.
Заходя в лес, я первым делом вешаю на дерево свой рюкзак. А потом просто иду. Чтобы все получилось, нужно идти и идти до тех пор, пока шум города не затихнет вдали. Пока его не сменят другие звуки: треск ветвей и журчание ручья. Я иду вдоль ручья, который выводит меня к обвалившейся каменной стене. К высоченному клену с прибитым к стволу проржавелым ведром для сбора древесного сока. Это и есть мое место. Куда я всегда прихожу. В книге «Складка времени» говорится, что время похоже на старое скомканное одеяло. Мне бы очень хотелось забраться в одну из его складок. Укрыться в ней. Спрятаться в крошечном тесном пространстве.
Обычно я переношусь в Средневековье. Как правило — в Англию. Иногда напеваю отрывки из «Реквиема», хотя знаю, что это не средневековая музыка. Я смотрю на все, что меня окружает — камни, опавшие листья, голые деревья, — так, словно могу это истолковать. Словно сейчас моя жизнь зависит от того, сумею ли я понять, о чем мне поведает лес.
Я всегда приношу с собой старое «деревенское» платье от «Gunne Sax», которое мне отдала Грета. Она носила это платье, когда ей было двенадцать. Конечно, оно мне мало и не застегивается на спине, так что приходится поддевать под него рубашку. Оно больше похоже на что-то из «Маленького домика в прериях», чем на средневековый костюм, но ничего более подходящего у меня нет. Зато есть роскошные средневековые сапоги. Всякий скажет, что подобрать правильную обувку — это самое сложное. Долгое время мне приходилось довольствоваться обыкновенными черными кедами, и я упорно старалась не смотреть на них, потому что они портили всю картину.
Сапоги — черные, замшевые, со шнуровкой из кожи — были куплены на средневековом фестивале в музее «Клойстерс», куда мы ходили с Финном. Дело было в октябре. К тому времени Финн уже четыре месяца работал над нашим портретом. А на фестиваль мы пошли в третий раз. В первый раз меня пригласил Финн, а остальные два раза я напросилась сама. Как только листья на деревьях начинали желтеть, я принималась наседать на Финна насчет фестиваля.
Ознакомительная версия.