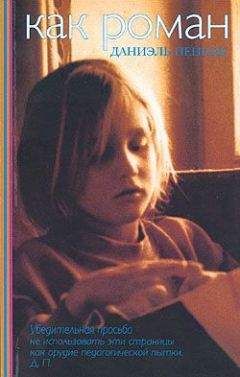Все без толку, в следующем же сочинении то же слово сорвется с его пера:
«В своей книге „Госпожа Бовари“ Флобер говорит…»
Потому что с точки зрения его нынешнего одиночества книга — она и есть книга. И каждая вроде тома энциклопедии, того самого, в твердом переплете, какой раньше подкладывали ему под попу, чтобы поднять до уровня семейного застолья.
Каждая книга — груз и тянет его вниз. Вот только что он уселся за стол — легко уселся: это легкость принятого решения. А уже через несколько страниц почувствовал до боли знакомую тяжесть — тяжесть книги, невыносимый груз бесплодного усилия.
Веки тяжелеют, возвещая о неизбежности крушения.
Риф страницы 48 пробил течь под ватерлинией его решимости.
Книга тянет его ко дну.
И они тонут вместе.
7
Тем временем внизу, у голубого экрана, все хором ругают телевидение, обличая его развращающую роль.
— Глупость, пошлость, насилие, какую программу ни возьми… Прямо караул! Невозможно включить телевизор, чтоб не наткнуться…
— А японские мультфильмы… Вы видели японские мультфильмы?
— Дело не в программах… Само по себе телевидение… его доступность… пассивность телезрителя…
— Нуда, сел, включил…
— Знай щелкай пультом…
— С программы на программу…
— Ну хоть от рекламы избавляешься…
— Да и того нет! Они же гонят ее синхронно. Переключаешься с одного ролика, попадаешь на другой.
— А то и на тот же самый!
Молчание: мы на «территории согласия», озаренной ослепительными лучами нашего взрослого здравомыслия.
И тут кто-нибудь, mezza voce:
— А вот чтение — совсем другое дело, чтение — процесс активный: акт чтения…
— Это ты верно заметил, читать — это действие, «акт чтения», это точно…
— В то время как телевидение — да и кино, если подумать… в фильме все преподносится на блюдечке, никакого собственного усилия: все разжевано, вот тебе изображение, вот звук, декорации… соответствующее музыкальное сопровождение, на случай если кто не понял, что имеет в виду режиссер…
— Дверь скрипит, чтобы знали, что будет страшно…
— А при чтении все надо воображать… Чтение — акт перманентного творчества.
Опять молчание.
(На сей раз — знак согласия «перманентных творцов».)
И новая реплика:
— Меня, например, поражает, сколько в среднем часов ребенок проводит у телевизора и сколько у него часов литературы в школе. Мне тут довелось познакомиться со статистикой…
— Это, должно быть, нечто!
— Соотношение — один к шести, а то и к семи. Не считая часов, которые они проводят в кино. В среднем ребенок — я не о нашем говорю — проводит перед телевизором два часа в день — минимум! — а в выходные — от восьми до десяти часов. То есть в сумме — тридцать шесть часов против пяти часов литературы в неделю.
— Да уж, куда там школе…
Опять молчание.
Молчание непостижимых глубин.
8
В общем, много чего можно было бы сказать, объясняя отчуждение между ним и книгой.
Мы сказали все.
Например, что не одно телевидение во всем виновато.
Что десятилетия, отделяющие поколение наших детей от нашего собственного читательского отрочества — пропасть глубиной в целые века.
Что психологически мы чувствуем себя ближе к нашим детям, чем наши родители были к нам, но интеллектуально мы остались ближе к нашим родителям.
(Тут возникает дискуссия о терминах, уточняются понятия «психологически», «интеллектуально». Начинается поиск другого слова).
— Может быть, эмоционально ближе?
— Эмоционально? Может быть. Эмоционально мы ближе к нашим детям, но реально — ближе к своим родителям, так?
— Да. Дело тут в «социальном факторе». Сейчас из-за наличия целого комплекса «социальных факторов» наши дети стали не только нашими, но и детьми своего времени, а мы были только детьми своих родителей.
—..?
— Ну да! Когда мы были подростками, мы жили в обществе, коммерчески и культурно рассчитанном только на взрослых. Нас в нем не учитывали. Одежда, еда, нормы поведения были для всех одни. Младший брат носил то, из чего вырос старший. Ели все одно и то же, в тот же час, за тем же столом, и по воскресеньям все вместе гуляли в парке. Телевизор объединял семью, все смотрели один и тот же канал (кстати, не в пример более интересный, чем все нынешние). А что касается чтения, то наши родители заботились об одном: как бы кое-какие произведения не попали нам в руки, — и ставили их на полку повыше.
— А если вспомнить поколение наших дедов, так у тех все было еще проще: девочкам вообще запрещали читать.
— Так оно и было. Особенно романы: «пустые бредни, небылицы». Боялись, что помешает замужеству…
— А сейчас подростки — полноправные члены общества, оно их одевает, развлекает, угощает, удовлетворяет культурные запросы: «Макдоналдсы», джинсы, молодежная мода…
Мы устраивали вечеринки — они ходят по клубам, мы читали книги — они глушат себя кассетами… Мы любили пообщаться под «Битлов» — они замыкаются в аутизме плееров… А такое невероятное явление, как присвоенные подростками кварталы, целые городские районы, где они тусуются как хотят!
Как тут не вспомнить Бобур![1] Бобур…
Бредовый Бобур, варварский сумбур, Бобур-безнадзорность-наркотики-насилие… Бобур и черная дыра метро… «Центральный рынок», Чрево Парижа!
— Которое извергает безграмотные орды к подножию главной публичной библиотеки Франции!
Опять молчание… из самых что ни на есть красивых: ангел парадокса пролетел.
— Ваши дети туда ходят?
— Редко. Мы, к счастью, живем в пятнадцатом округе.
Молчание… Молчание…
— Короче, они больше не читают.
— Увы.
— Слишком востребованы обществом. — Да.
9
А если не телевидение и ложные ценности общества потребления — значит, засилье электроники; не игры, зомбирующие детей, — так школа: неправильно учат чтению, программы устарели, учителя малограмотны, помещения обветшали, библиотек не хватает.
Что там бишь еще?
Ах да, бюджет Министерства культуры… Слезы! И бесконечно малая величина, отведенная в этой микроскопической сумме Книге.
Как же вы хотите, чтобы в этих условиях мой сын, моя дочь, наши дети… как же вы хотите, чтобы молодежь читала?
— И вообще, французы читают все меньше и меньше…
— Да, так оно и есть.
10
Вот так мы судим и рядим, без устали одолевая словами расплывающуюся действительность, а светоносные мгновения молчания говорят больше, чем слова. Мы — бдительные, мы — информированные, нашему времени не обвести нас вокруг пальца. Целый мир в том, что мы говорим, и весь освещен тем, о чем умалчиваем. Мыслим мы трезво и здраво. Здравомыслие — наша страсть.
Так откуда же тогда смутная печаль после разговоров? Полуночная немота в доме, оставшемся наедине с собой? Только ли из-за перспективы мыть посуду? Вряд ли… В нескольких кабельтовых отсюда наших друзей, остановившихся на красный свет, сковала та же самая немота, которая настигает едущие из гостей супружеские пары, едва развеется хмель здравомыслия. Немота похожа на горечь во рту после сильного опьянения, отход анестезии, медленное возвращение сознания; мы становимся сами собой — и со смутным недовольством не узнаем себя в том, что мы говорили. В наших собственных словах нас не было. Все остальное было, наши доводы были верными, и в этом смысле мы были правы — но там не было нас. Никакого сомнения: еще один вечер угроблен наркозом здравомыслия.
Вот оно как… думаешь, что возвращаешься к себе, а возвращаешься в себя.
Все, что мы только что говорили за столом, и близко не лежало с тем, что говорилось внутри нас. Мы говорили, что нужно читать, а сами были с ним, там, наверху, в комнате, где он заперся и не читает. Перечисляли причины, почему в наше время дети не читают, а сами искали способ пробиться сквозь стену-книгу, отгородившую нас от него. Мы говорили о книге, а думали только о нем.
О нем, чье появление за обедом не принесло нам облегчения: ввалился в столовую в последнюю секунду, ни «здрасьте», ни «извините», плюхнулся на стул всей тяжестью переходного возраста, не потрудился принять хоть какое-то участие в беседе и вскочил из-за стола, не дождавшись десерта:
— Извините, мне надо читать!
11
Утраченная близость… Вот так лежишь, и не можешь уснуть, и думаешь, вспоминаешь — ведь этот вечерний ритуал чтения, когда он был маленьким, был сродни молитве. Каждый вечер в один и тот же час после дневной кутерьмы наступало затишье, непременная встреча, вопреки любым обстоятельствам, миг сосредоточенного молчания перед первым словом рассказа, голос, наконец-то наш, настоящий, литургия эпизодов… Да, вечернее чтение выполняло самое прекрасное предназначение молитвы — самое бескорыстное, наименее отвлеченное, чисто человеческое: оно освобождало от обид. Мы не каялись в грехах, не пытались обеспечить себе толику вечности, мы вместе причащались словом, получали отпущение и возвращались в единственный рай, который чего-то стоит: близость. Сами того не подозревая, мы открывали для себя едва ли не главное назначение сказки, и даже шире — назначение искусства: устанавливать перемирие в битве жизни.