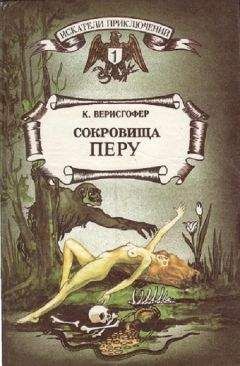Я вышел из машины, голова моя кружилась, и пошел к такси.
Я открыл дверь с ее стороны. Там сидела она, моя возлюбленная. Моя жертва. Она показалась мне испуганной. Но почти сразу лицо ее изменилось — и я увидел гордую готовность к сопротивлению.
— Господи, Макс, — сказала она, — так это ты.
— Да, я видел, как ты садилась в машину.
— Садилась? Где?
— Где ты садилась, у…
Как будто это что-то значило. Пожилой мужчина терпеливо и дружелюбно смотрел то на Сабину, то на меня и молчал. Она его не представила.
— Что, собственно, ты здесь делаешь? — Это звучало почти грубо.
— Я издатель. Франкфуртская ярмарка. А что ты здесь делаешь?
— Работаю. Фотографирую.
— Как у тебя дела?
— Хорошо.
Она отвечала, как ребенок в школе отвечает на неприятные вопросы учителя, опустив глаза.
— Могу я с тобой увидеться? Поговорить?
— Боже. Нет. Видеться? Говорить?
Знакомая изящная головка, совсем близко от меня — и такая недоступная; брови чуть светлее и тоньше, чем раньше. Деловая женщина, носит косу, едва заметно накрашена… Ее лицо стало взрослее и жестче, но почти не изменилось. На фотографии оно выглядело более женственным. Ее спутник — друг? родственник? — следил за нами внимательно и озабоченно. Наверное, мы слишком долго молчали.
— Познакомься, Макс, — сказала она. — Сэм, это Макс Липшиц, очень давний друг. Макс, это Сэм Зайденвебер.
Очень давний друг… Я превратился в исторический факт. Я вопросительно посмотрел на нее — кто он? — но она не отреагировала. Почему, собственно, она должна объяснять мне что-то?
Я протянул Сэму руку. И тут меня осенило: он же знаменитый продюсер. Он снимал… Но я был так взволнован, что не мог вспомнить ни одного названия.
— Я не один. Со мной автор, мои редакторы… — сообщил я неловко. Мы, все разом, посмотрели на мою машину. Оттуда, взволнованные, как дети, Нора, Якоб и Виллем глядели на нас сквозь забрызганные стекла. — Они, наверное, умирают от любопытства. Мы за тобой гнались.
Мне было стыдно. Смертельно стыдно.
— Ты за мной гнался? — Сабина изумленно взглянула на своего спутника. — Мы должны… — начала она.
— Давайте все вместе пообедаем! — перебил я. Мысль, что она снова пропадет, исчезнет, не выслушав моего рассказа, была невыносима.
Она смущенно отвела глаза. Я захватил ее врасплох. Она молчала. Затем повернулась к своему спутнику. Кто он ей?
— Сэм и я…
Сэм кивнул, почти восторженно.
— Конечно! — сказал он по-голландски с небольшим акцентом, происхождение которого я не смог определить. — Отличная идея, Сабина. Кстати, я приехал сюда, чтобы найти голландского издателя! Чудесное совпадение! — и, повернувшись ко мне: — Вы что издаете?
— В основном художественную литературу; еще — научно-популярные книги. Биографии. И детские книги.
Зайденвебер заинтересованно кивал. Вблизи он выглядел старше, чем я вначале подумал, — семьдесят ему наверняка исполнилось.
— Отлично. Сабина, давай поедем к Флориану, — сказал он. — Вам, конечно, тоже надо многое обсудить.
Сабина все еще смотрела на меня. Ясно, она не знала, чего хотела.
— О’кей, — сказала она наконец голосом, напряженным от внутренней борьбы. Прыжок на который она решилась.
Глубоко вздохнула. Нахмурила брови. Она была как натянутая струна. Мне стало ее почти жалко.
Я сказал:
— Почему бы вам не поехать с нами? Места достаточно.
17
Сэм Зайденвебер казался дружелюбным человеком и, несомненно, харизматиком.
Все в машине молчали, разговаривали только я и Сэм — об американских писателях, но я уже не помню, о каких именно.
Для меня важнее всего было присутствие Сабины. Чем дальше увозил я ее от того места, где мы встретились, тем сильнее было ощущение победы.
Цель этой акции — никто, кроме меня, не понимал, как сильно она похожа на захват заложников, — была мне до сих пор неясна. Я уже не знал, нужны ли мне ее признания. Я знал только, что ее присутствие здесь становится естественнее с каждым километром, как будто каждая лишняя минута рядом с ней возвращала мне привычные права.
А еще я хотел обладать ею, гладить, мучить, целовать, затыкать ей рот поцелуями, терзать, пожирать. И так далее. В глубине души я твердо знал, чего хочу от нее. Получить ответы на свои вопросы и, может быть, отомстить — то есть найти выход из тупика, в который зашла моя жизнь. Не для этого ли я так долго искал ее?
И вот она тихо сидит в моей машине, рядом с Якобом и позади Норы, оба задают ей вежливые, дружелюбные вопросы. И мне от этого почти больно.
Что за странное создание человек, думал я. Жалкое существо из костей и мускулов, рук, ног и случайно добавленного к этому характера. Незаменимых так мало. Почему же на ней для меня свет клином сошелся? Почему она оказалась той самой, единственной?
В зеркало мне было видно, как Сабина напряжена. Она в замешательстве бормотала что-то, глаза ее были распахнуты, она улыбалась все шире, боясь показаться невежливой. Между тем я заметил, что она, не принимая участия в моей беседе с Сэмом, пытается за ней следить.
Американские писатели, о которых я хоть что-то знал, скоро закончились, но я продолжал болтать всякий вздор: о том, что купил, о ярмарке, погоде, транспорте — украдкой наблюдая за Сабиной. Словно не желал показать, что она все еще меня интересует — после стольких лет разлуки, после того, как она бросила меня — мое тело, мою грубость — все, во что она была так непреодолимо влюблена (ее собственные слова).
Сабина смотрела на меня, но я старался не глядеть назад. И все же наши взгляды непроизвольно пересекались, а как же иначе — без нас этой поездки не было бы. Мы были ее основой, точкой покоя, глазом тайфуна.
Раз, когда мы чуть дольше задержались взглядом друг на друге, я чуть не проехал на красный свет.
Я назвал бы ее взгляд нетерпеливым и в то же время усталым, если чей-то взгляд можно так назвать. Выражение, напоминавшее снисходительное обещание прощения, уже исчезло.
Или мне все это только почудилось? Неужели я все еще хотел знать правду? Или вернее сказать: посмел ли бы я ее узнать?
Должен ли я оберегать ее? Нет, этого я не мог. Но готов был пощадить.
18
Сэм Зайденвебер говорил по-голландски — с небольшим акцентом и употребляя старомодные выражения, — потому что был родом из Амстердама.
Почти сразу после войны он уехал в Америку, сначала в Нью-Йорк, а оттуда — в Лос-Анджелес. Мне было интересно, но я не отважился спросить — слишком быстро он сменил тему разговора, — по какой причине он покинул Европу. То, что он — еврей, не вызывало сомнений. Достаточно было на него поглядеть. Большие глаза с удивительно длинными ресницами; красивый нос с горбинкой, высокий выпуклый лоб: породистое еврейское лицо. Такой же типичной была фамилия. Удивительно, что он не американизировал ее.
Густая копна седых кудрей окаймляла маленькую лысину. Когда-то давно я видел его фото; там он был довольно толст, и кудри были черными. Со временем он похудел и превратился в красивого, элегантного старика, которого можно было принять скорее за адвоката, чем за директора киностудии.
Мне стало интересно, как Зайденвеберу удалось выстоять в Голливуде, — таким мягким и воспитанным он казался. Когда мы входили в ресторан, я обратил внимание на его одежду— шелковые носки и дорогие мокасины, белая рубашка и твидовый пиджак с кожаными заплатами на локтях.
Можно было позавидовать естественной небрежности, с которой он носил эти вещи, и его отличному вкусу. Мне это понравилось, хотя сам я к одежде безразличен — в отличие от отца, который предпочитал одежду высокого качества, дорогую обувь (он всегда покупал ее на распродажах) и хорошие кожаные куртки.
Когда мы наконец уселись и Сэм заметил, что ни Сабина, ни я не в состоянии участвовать в общем разговоре, его было уже не остановить. Он спросил, сильно ли изменился Амстердам — город, в котором он вырос.
— Сабина вернула мне Амстердам, — сказал он. — Благодаря ей я могу простить этот город за то, что там сделали с моей семьей.
Я слушал с возрастающим вниманием. Почему Сабина? Что она сделала?
— Разве ваша семья не могла эмигрировать? — спросила Нора осторожно.
Сэм насмешливо покрутил головой:
— Нет. Не в Америку. В Польшу — пожалуйста, только такую поездку я назвал бы скорее нежеланным путешествием, чем эмиграцией.
Меня поразил его сарказм: он явно справлялся с собой хуже, чем пытался показать.
Нора покраснела, ужас отразился на ее лице; потом она кивнула, прикрыв глаза, чтобы показать, что поняла. Наверное, вспомнила о своих новеньких еврейских корнях.
Неожиданно меня рассердило ее поведение.
Почему всякий старается показать, что знает об этом большом горе? Лучше бы признавались честно, что ничего не знают и ничего не понимают. Люди, пережившие Катастрофу, стараются об этом не думать. Не зря душа вырабатывает эндорфины: они помогают подавить боль и отвращение. А что за чувства могут быть у людей, знающих о Катастрофе лишь по рассказам?