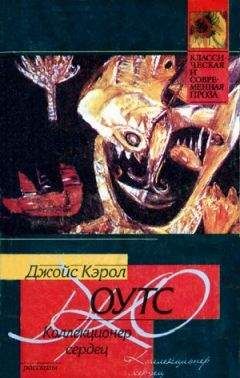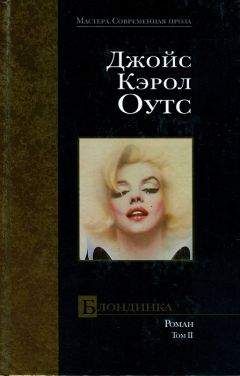Что ж, очень даже может быть! И в этом я похожа на него, а не на тебя.
* * *
Ты продолжаешь методично обыскивать дом. Десять вечера, половина одиннадцатого, одиннадцать; мать говорит, что идет спать, потом вдруг передумывает, некоторое время ходит за тобой по пятам, потом отстает. Ты устала, ты уже почти ничего не видишь от усталости, но по-прежнему преисполнена решимости. И твердишь себе: если отец где-то здесь, в доме, ты его найдешь. Заглядываешь в чуланы, щурясь, всматриваешься в темный угол под лестницей. А может, он наблюдает за тобой через окно, в этом и состоит его игра? Ты поднимаешься по лестнице на второй этаж, где мама тоже оставила свет, он горит и в холле, и в комнатах. Пап? Папа? – шепотом зовешь ты. И кажется, что в ответ раздается его низкий горловой смех – или это завывает за окном ветер? Потому что к вечеру с северо-востока вдруг задул ветер; стало холодно; а когда ты вылезала из такси, в воздухе запахло снегом, изо рта валил пар, и ты так торопливо совала мелкие купюры в раскрытую ладонь водителя. Вот, пожалуйста, сдачи не надо, спасибо! А взгляд твой уже так и притягивал, словно маячок, свет крыльца. Они ждали тебя все эти годы. Мамочка, папа, я здесь!
А вот и комната, где прошло твое детство, в ней мало что изменилось. Кровать застелена стеганым покрывалом в цветочек, на полу радостной расцветки ковер, на стенах твои фотографии. Вот ты младенец, а здесь – маленькая девочка, то одна, а то вместе с папой и мамой или родственниками; а вот твой отретушированный в студии фотопортрет – невероятно хорошенькая девушка лет семнадцати с немного узковатым лицом, в белом выпускном платье. Ты совсем не помнишь эту девушку и быстро отводишь глаза. А ее взгляд так и преследует тебя, но тебе удается преодолеть искушение. Позже мама использовала эту комнату, устроив в ней нечто вроде мастерской для шитья; вот и ее старомодная швейная машинка «Зингер» с ножной педалью, коробочки с нитками, иголками, пуговицами, даже манекен стоит здесь же. Дверь в чулан отворена, мама успела побывать и здесь, тоже искала. Ты прекрасно понимаешь, что отца в чулане нет, но не в силах удержаться, все же заглядываешь туда, затаив дыхание. Потом выключаешь там свет, и свет в комнате – тоже, закрываешь дверь и уходишь.
Потом производится осмотр всех комнат второго этажа, и во всех поочередно выключается свет. Затем – по крутым ступеням наверх, на чердак. Здесь страшно холодно, чердак насквозь продувается. Дверь распахнута, свет горит, голые лампочки над головой, при взгляде на них начинают болеть и слезиться глаза, но все равно есть совершенно неосвещенные углы. И еще здесь запах, от которого подрагивают ноздри и брезгливо кривятся губы, – сухо и кисло пахнет пылью. Ты осторожно пересекаешь чердак по центру, где света достаточно, двигаешься медленно, еле дыша, словно боишься, что деревянный пол под ногами вдруг рухнет. Целые горы журналов по медицине, сундуки, не открывавшиеся десятилетиями, и повсюду слабо поблескивает паутина. Кое-где в центре даже видны жирные крупные пауки, все остальное филигранной работы плетение усыпано высохшими останками насекомых. Как бешено бьется сердце! Ведь ты, должно быть, надеялась обнаружить отца именно здесь, в темном углу, на полу, без сознания. Кипя от ярости, он поднимался сюда по крутым ступенькам, и больное сердце не выдержало.
Пап?… Папочка? Это я.
Где ты прячешься? Папочка, папа?…
Настала пора спускаться на второй этаж, и ты методично гасишь свет и закрываешь дверь на чердак. А вот и мама стоит и дожидается тебя внизу, у подножия лестницы, и бормочет что-то сердито и жалобно, но… где же она? В голову приходит абсурдная мысль: ты и маму потеряла тоже здесь, в этом странном, похожем на пещеру доме.
В замешательстве, но без особой тревоги ты окликаешь мать, поспешно сбегаешь вниз, подворачиваешь ногу на самой нижней ступеньке и морщишься от боли. Черт побери!
А мать, оказывается, в кухне, поставила на плиту чайник. Лицо мрачное, смотрит озабоченно, однако в глазах читается сердитое удовлетворение. Ты признаешься, что ничего и никого не нашла, ни следа отца, он действительно пропал, и она пожимает плечами. Ну, видишь, что я тебе говорила? Ты просишь у нее карманный фонарик, потому что собираешься спуститься в подвал и посмотреть там. Мать указывает на ящик стола, где лежат разнообразные инструменты и предметы домашнего обихода.
Ты берешь фонарик и храбро отправляешься в подвал. Дверь в него открывается сразу из кухни, и ты, спускаясь по шатким ступенькам, думаешь, что он должен быть здесь. Ты возбуждена сверх меры, и в голову приходит еще одна мысль: стоит ему меня увидеть, он сразу поймет, что это я, и покажется. Да, несомненно! И в то же время тебе немного страшно. Ты дрожишь и потеешь. Почему-то вспоминается Клеопатра, такой, как она описана у Плутарха, – она спускается голой в темный колодец, где ее до смерти закусают гадюки.
В подвале пахнет отсыревшей штукатуркой, сладковатой гнилью, землей. Ты светишь фонариком (лампочка в нем совсем слабая) по углам, потом – за старой стиральной машиной и сушилкой, высвечиваешь темное пространство за печью, вспомнив, что мать однажды именно там нашла отца или утверждает, что нашла, – но, разумеется, сегодня там никого, чего и следовало ожидать. Дрожащей рукой ты посылаешь луч фонарика в самые темные углы. Но вокруг и над головой – полная тишина, ничего не слышно, кроме твоего учащенного дыхания.
Этот дом следует продать, и чем скорее, тем лучше. Этот претенциозный старый дом с широкой верандой, окнами-эркерами, башенками и водосточными трубами, прямоугольным викторианским орнаментом, всем этим огромным и никому не нужным пространством. Будучи ребенком, ты никогда не задавалась вопросом, зачем это родители поселились в таком большом доме, тебе казалось вполне естественным, что все вы живете здесь. Но однажды ты подслушала, как мать говорила тете, что надеялась иметь полный дом детей, но не получилось.
Обследовав подвал, ты надеваешь пальто и выходишь на улицу. Боже, до чего холодный ветер, так и обжигает разгоряченное лицо, а месяц по-прежнему светит ярко. Так, теперь к гаражу, прежде здесь были конюшни, места достаточно для трех машин, но у родителей всего одна – старый «мерседес», он стоит в глубине, в тени. И в нем, разумеется, никого. Ты светишь фонариком на заднее сиденье. В голову приходит совершенно безумная мысль: что, если отец заперся в багажнике, возможно, он до сих пор там, задыхается?… Но ключей от машины у тебя нет, открыть багажник невозможно, и вот ты прижимаешься к нему ухом и тихонько окликаешь: Пап? Папа?… И прекрасно понимаешь, что это полный абсурд. У задней стенки гаража свалены в кучу дрова для камина, кусок ковра, рулон линолеума длиной шесть футов, и ты светишь фонариком во все щели и дыры, во все эти туннелеобразные отверстия, думая, что, возможно, мать не догадалась заглянуть сюда. Безрезультатно.
На улице ты идешь по заднему двору, высвечивая лучом фонарика вечнозеленые деревья и кустарники, голые ветви, траву с блестками изморози, похожими на битое и размолотое в порошок стекло. Родители совершенно запустили участок: на высоких дубах торчат высохшие ветки, которые следует удалить; там, где давно, много лет назад, был огород, буйно разрослись сорняки. Что ж, это потом, когда-нибудь в другой жизни. А вот и граница участка, она отмечена белой оштукатуренной стеной из камня высотой в четыре фута, и за ней начинается муниципальная собственность – не принадлежащие никому земли, леса и поля. С той, другой стороны граница их отмечена автомагистралью, это приблизительно в миле отсюда, и несколько лет назад там начали возводить жилой район. Возможно, начинаешь думать ты, вполне вероятно, что отец перелез через эту каменную стену, ведь она частично разрушена. Лез через нее, запыхавшийся и обиженный, а потом ушел в лес. А может, побрел в сторону новостройки. Кто его знает, кто мог его видеть, кто найдет его, если он не хочет быть найденным? И что, если вдруг ему стало плохо, прихватило сердце и он лежит на земле беспомощный и одинокий? Тогда до рассвета его не найдут.
На луну надвинулась гряда облаков и стала пожирать ее – сперва полупрозрачные, они становились все плотнее и гуще, лунный свет быстро тускнел, и на лицо стали падать первые колючие снежинки. А что, если отец ушел умирать – это ведь его право? Стоит ли в таком случае устраивать на него охоту, искать, выслеживать, потом силой тащить домой и спасать?
И ты бежишь обратно в дом, в кухню. Мама уже приготовила чай из трав, зная, как ты любишь его, и, заметив выражение твоего лица, говорит быстро: Куда ты провалилась? Стоило тебе уйти и мне показалось, я слышу его. И я говорю: Ты слышала его? Папу? Где? И мать говорит: Я слышала, как он смеется, где-то совсем близко, может, на улице, вон там, за окном. Он знает, что ты здесь, это часть его плана, он хотел заманить тебя сюда.