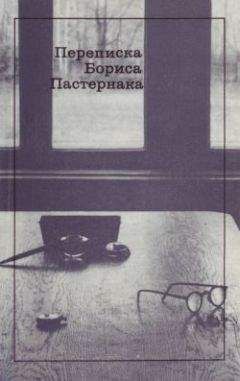«Гадость, гадость какая». Саша отвернулся. Выглянул в окно своей комнаты. Увидел, как церковный сторож закрыл массивные, оббитые железными крестами ворота на замок. Рассказывали, что в этой церкви в 1856 году отпевали Петра Яковлевича Чаадаева.
Потом церковный сторож положил ключи в карман и направился куда-то в сторону Лефортова, смешно размахивая при этом длинными руками, далеко выступавшими из коротких, вытертых на локтях рукавов подшитого войлоком старого немецкого лапсердака. Перепрыгивал через лужи, через сугробы, через тумбы, сооруженные из врытых по обочине тротуара — казенной частью вверх, а стволом — вниз, под землю, — пушек. Они остались здесь, по всей видимости, еще со времен московского пожара.
Антонин Львович целился.
Антонин Львович целился в Надежду Витальевну из костыля, который у него всегда стоял прислоненным к кровати:
— Сейчас как стрбельну в тебя!
Это он говорил, а мать и отвечала ему, дураку такому, укоризненно:
— Сколько раз я тебе говорила, что нельзя целиться в живого человека хотя бы даже и из костыля, хотя бы даже и в шутку, потому что если ты меня застрелишь, то кто за тобой будет ухаживать, кто будет выводить тебя на прогулку, кто будет стирать твои зассанные кальсоны? А? Никто, понимаешь, никто не будет! И подохнешь, просто потому, что не сможешь встать с кровати, ну там от голода подохнешь, от жажды, от собственной беспомощности. Хотя нет, а может быть, ты сам все это будешь делать, паралитик чертов?!
— Все равно стрбельну! — звучало в ответ.
Саша закрывал дверь своей комнаты на задвижку и ложился на кровать. Долго смотрел в потолок, воображал себе, что это вовсе и не потолок никакой, а заснеженная пустыня, которая тянется от Басманной до Сокольников, или что это бескрайний, бездонный овраг.
Вообще-то Саша знал, что такой овраг был в Москве, кажется, где-то в районе Волхонки, и имел странное название — Черторый. То есть, значит, его рыл сам черт, демон, куда и мочился, испражнялся, где и разводил костры из сухих костей.
А за оврагом до Москвы-реки тянулась по большей части одноэтажная местность, где в одном из старых, горчичного цвета особняков на Колымажном дворе у церкви святого Антипия, епископа Пергамского, находилось хранилище древних свитков, мумий, старинных карт, гравюр и египетских изваяний. Особняк этот стоял в глубине старого, почерневшего от февральской ледяной сырости парка. И Саша воображал себе, как он открывает ворота в этот парк, минует сизые, покрытые колючим наждаком инея оштукатуренные столбы ограды и идет между поваленными ураганом, опрокинутыми в кучу после расстрела деревьями.
Происходило это так. Сначала деревья выстраивали в шеренгу перед кирпичным брандмауэром и делали на них отметки красной или белой краской: кого казнить сейчас, а кого — потом. Затем включали электрические прожектора на вышках и специально слепили несчастных, даже не давали им опомниться, в том смысле, что не находили особой разницы между вспышкой яркого света и ружейным залпом. Все едино
После того как приговор приводился в исполнение, приходили уборщики в длинных брезентовых фартуках, бросали казненных в заранее приготовленные ямы и засыпали мерзлой, комкастой глиной. Перекуривали тут же. Потом, взвалив больше напоминавшие гигантские ложки с прилипшими к ним остатками еды лопаты на плечи, уборщики медленно шли в глубь сада, где в обшитом нестругаными досками каретном сарае была устроена сторожка.
Вот — из короткой железной трубы, выставленной прямо в окно, идет дым, а иногда вылетают и искры.
Здесь дворники обстукивали о деревянную приступку свои вымазанные глиной сапоги и заходили внутрь. Гомонили.
Наконец по пояс в снегу Саша добирался-таки до особняка, поднимался на крыльцо и стучал в дверь…
Надежда Витальевна постучала в дверь и позвала Сашу к ужину. Приходилось дверь открывать
Антонин Львович уже сидел за столом. Он всегда ужинал в абсолютно одинаковой позе — навалившись плоской, как шахматная доска, грудью на стол, почти полностью опустив лицо в тарелку, руками же при этом он держался за края стула, буквально намертво сжимал их побелевшими от напряжения пальцами — то ли он боялся упасть под стол, то ли сосредоточенно нюхал поднесенную матерью отраву. Черт его знает, припадочного! В эти минуты лица его было почти не разглядеть, потому как оно было полностью окутано слоистым паром. А может, это был и не он вовсе, а какой-нибудь нищий инвалид с паперти церкви Петра и Павла, которого Надежда Витальевна предположительно позвала разделить трапезу, ну, например, в Чистый понедельник?
— Что делает здесь это животное? — кричал Антонин Львович. — От него воняет! Пускай немедленно убирается отсюда!
— Да сам ты животное, — невозмутимо отвечала ему Надежда Витальевна и подкладывала инвалиду в тарелку здоровенный кусок тушенного в черносливе мяса. — Угощайтесь, угощайтесь, Христа ради.
Нет, нет, все это вранье, все это следствие крайнего перевозбуждения, и за столом никого, кроме Антонина Львовича, его матери и Саши, нет.
Горит свет.
Тушеное мясо источает сильнейший, доводящий до одури запах распаренных специй, плавающих наподобие океанического планктона в густой, пузырящейся подливе.
Во время ужина Саша рассказывает, как сегодня днем посетил Музей изящных искусств, что на Волхонке, а также расположенное рядом древлехранилище — свитки, мумии, старинные карты, ноты, гравюры и египетские изваяния. Что это и есть основа его книги, которую он должен закончить к концу мая, иначе говоря, по возвращении в Петербург. Впрочем, продолжает Саша, работа подвигается крайне медленно. Например, вчера допоздна сидел за письменным столом, поочередно включая и выключая настольную лампу. Когда наконец все в очередной раз погрузилось в темноту, встал из-за стола, на ощупь добрался до кровати и, не раздеваясь, лег поверх одеяла. Вскоре глаза совершенно привыкли к темноте, и это было весьма и весьма приятно — вот так лежать в голубоватой дымке, воображая себя целиком потопленным в огромной мраморной чаше, на изукрашенное арабской вязью дно которой едва проникает слабый свет уличных фонарей, и думать. Часы на Каланчевке пробивали полночь.
А что значит — думать? Может быть, как никогда явственно, ощущать вторичное происхождение всякой мысли, всякого умственного движения по сравнению с ни к чему не обязывающей бессвязностью и немотивированностью спонтанно возникающих эмоций, имеющих, безусловно, исключительно физиологическое происхождение.
По своей сути всякое размышление, пусть даже и возникающее внезапно, как электрический разряд или хлопок газа в чугунном, стоящем на кухне водогрее, становится закономерным результатом насилия над собой, над своей памятью. Иначе говоря, над кажущимся на первый взгляд неумением вспоминать и выдвигать из себя наиболее верно и точно те движения души, которые и есть мысль. Это своего рода погружение в экстатическое состояние, когда некое беспредметное мечтание, греза, которые и словами-то нельзя выразить, постепенно обретают вполне законченную форму. И вот ты уже не можешь остановить течение мысли, поводом для которой явилась первая пришедшая в голову идея, хотя бы и о смерти, о страхе, о страхе Божием, о ненависти, о болезни, о твоих родных или родителях. Возникает такое впечатление, ложное в своей основе, будто разверзлись некие врата, и их уже невозможно затворить, как, например, невозможно разучиться думать, до какой бы степени скотства ты ни доходил, или разучиться писать, читать, говорить. Попытка разучиться говорить вообще выглядит весьма комично — это значит, что нужно просто забирать слова обратно, под спуд, произносить их, наоборот, до тех пор, пока не поглотишь последнюю антифразу, последнее антислово. И вот наступает лишь поглощение пустого воздуха, что, впрочем, само по себе не так уж и дурно, но ты не можешь сказать: «Я больше не умею говорить», потому что слов и букв больше нет, просто не существует, они вычеркнуты из твоего знания, из твоей мысли о них.
Что это? Расстроенная физиология? Приступ нервной болезни? Просто отчаяние? Нет, нисколько! Ведь это, по сути, первые пришедшие в голову ответы, весьма и весьма легкомысленные, крайне неглубокие в своей основе, а потому и крайне оскорбительные. Действительно, разве можно видеть в собственном нравственном, духовном ли, не суть важна, опустошении только болезнь, только недуг. Это было бы слишком просто. «Ты тяжело болен, черт возьми, и тебе надо лечиться!» — эти слова произносятся, как правило, с некоторым превосходством — что болен ты, но я-то, слава Богу, здоров. Дидактический, нравоучительный залог просто невыносим! Ну хорошо, а если, например, ты переполнен мыслями, воспоминаниями, видениями и разного рода рефлексиями? Как быть тогда? Причем переполнен до такой степени, что тебя буквально тошнит от них и ты уже не в силах перебороть их нескончаемого круговорота — из головы в желудок, из желудка в голову, и так до бесконечности, до судорог, до обморока.