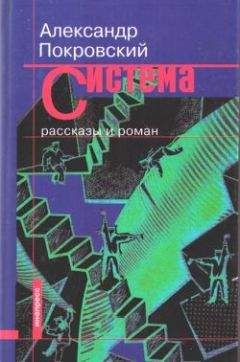– Ебутся миллионы?
– Копать мой лысый череп! Ты все понял, сын мой!
Ну, и так далее.
А теорию спинов я вообще объяснял на примере ботинок.
– Они уложены на орбите в разных направлениях.
– Зачем?
– Что «зачем»?
– Зачем в разных?
– Для экономии пространства. В коробке из-под обуви ботинки тоже лежат носами в разные стороны, для того.
– …чтоб в коробку влезли?
– Да ты у нас гений, Козлодоев! Тебе это еще никто не говорил?
С математикой было хуже. Юра Васильев, читавший с шести до семи утра каждый день Диккенса в подлиннике, для чего его дневальные будили в пять пятьдесят пять, никак не хотел согласиться с тем, что квадрат гипотенузы равен сумме квадратов двух катетов. Мы с ним начали с интегралов и дошли до Пифагора, имея целью, видимо, таблицу умножения.
– Юра, блин! – кипел я.
– Папа! – говорил он мне и фальшиво плакал, а потом он еще раз кричал, – ПАПА!!! – и уже падал мне на грудь.
Так что в училище меня называли «Папой».
В училище было много кличек. Меня звали «Папой» или «Папулей». Лобова – «Лобычем» или «Лбом». Минькова – «Миней» или «Миндозой», Маратика Бекмурзина – «Маратадзе, Чавчавадце, Коки» (это я придумал), Юру Васильева – «Васей», а Вову Шелковникова – почему-то «Петей».
Не оброс вовремя волосами – значит, ты у нас будешь «Лысым».
Перетянули в училище из института – значит, ты навсегда «Студент».
Юрку Колесникова звали «Колесо».
– Колесо, Колесо, – говорил ему преподаватель физической культуры майор Стожик, обладатель только одного легкого, второе ампутировали, – Колесо, встал на краюшке, вытянулся весь, и не смотрим вниз, и падаем.
Это у нас идут занятия в бассейне. Надо прыгнуть с пятиметровой вышки.
Юра отчаянно кивает головой, стоя на самом краюшке.
Потом он падает. Плашмя – туча брызг, майор Стожик стряхивает воду с середины штанов, а Юра всплывает из пучины, как лист фанеры, из стороны в сторону, после чего он, красный телом, опять лезет на вышку – надо прыгнуть правильно, зачет.
– Колесо, Колесо, аккуратней. Да не смотри ты вниз!
Хлоп! – тучи брызг. Опять плашмя.
– Колесо! Ты меня слышишь? Ты все понял? Смотри на меня! Ты все понял? – Юра кивает отчаянно, как влюбленный ишак, на ресницах у него капли воды, они никак не слетают, отчего те ресницы кажутся жутко лохматыми.
– Давай, Колесо!
Хлоп! – опять плашмя.
А Сережа Юровский никак не мог себя заставить подойти к краю вышки. Он только большие глаза делал да мотал головой – нет, ни за что!
И вот он решился – с разбега. Разбежался, прыгнул, но в последний момент, на одних рефлексах, выбросил руку в сторону и, как шимпанзе, поймал перила – его на лету развернуло и как лягву об асфальт – на!
Еле выловили потом в бассейне.
Бассейн – это всегда приключение. При сдаче вступительных экзаменов надо было проплыть в бассейне сто метров. Один парень из Дагестана так хотел поступить, что никому не сказал, что он плавать не умеет.
По команде он прыгнул, погрузился на дно и уже по дну, цепляясь когтями, пополз к финишу.
В бассейне не соскучишься.
Олег, к примеру, Смирнов плавал брассом так шикарно, что при каждом нырке казалось, он обязательно хочет воды напиться. Он делал гребок, открывал пошире рот, потом нырок с открытым ртом, потом выныривал, отплевывался, обязательно вытирал себе рукой лицо, потом делал еще один нырок – и так, все время запивая, плыл себе сто метров.
Я же плавал, как молодая выдра, но это у меня с детских желез.
Мне только трудно было сдать на вступительных экзаменах бег – я в десятом классе перенес ревмокардит – это такая замечательная болезнь миокарда. Возникает она как осложнение после гриппа, когда он дает осложнение на гланды, а уже они на сердце, и вы учитесь сперва ходить по стеночке, а сердечко противно, как резиновое, стучит в ушах, и даже не стучит, а как-то шелестит; а после вы добираетесь до врача, и он за двадцать рублей – в те времена неплохие деньги – вырывает вам гланды почти по живому – не успело, видимо, как следует заморозиться, взяться новокаином, – после чего вы ходите по земле с каждым месяцем все лучше и лучше; а вот уже и побежали-побежали, сначала всего несколько шагов, потому что сердце из ушей сейчас выпрыгнет, а там и вовсе пробегаете сто метров – вот бы не умереть, а на экзаменах побегаете и того больше, кажется, тысячу.
У меня сердце в ушах шумело еще несколько лет, затем шум потихоньку стих.
Запах хлорки напополам с дерьмом. Это я про училищную столовую – запах хлорки напополам с дерьмом.
Летом перед входом в столовую стояли лагуны с хлоркой, а потом этими руками надо было есть.
Той же хлоркой посыпались туалеты.
Дивно.
На училищной фотографии мы стоим с Гешей Родиным. Лысые и счастливые – это мы после присяги.
Принимали мы ее с автоматами. Утром почистили автоматы, и на плац. Солнце и в душе ликованье, а вдалеке – стайка родителей, потому что день открытых дверей, и их пустили на территорию, и они ходят по ней взволнованные, особенно почему-то отцы.
Как-то считалось, что отцы-то уж точно волноваться не должны, это мамы льют слезы, непонятно почему, а вот отцы – это да, эти лить не должны, но они часто отворачивались и чего-то там шмыгали, подозрительное это дело.
Только к собственным пятидесяти годам я понял, что это такое – быть отцом, когда мой личный сын три ночи ночевал где попало. Он ушел просто из дома, а мы все звонили по его знакомым: где он и как. Был праздник города, и он в свои семнадцать напился так, что сам идти не мог и его тащили окружающие. Устали тащить – бросили, и его подобрала милиция, потом скорая, больница.
А мы обзвонили уже все милиции, все морги – так что нашли, поехали, да, привезли, накормили, да, отмыли-отмыли.
Отправляясь спать, он все твердил: «Простите меня, пожалуйста! Простите меня, пожалуйста!»
А в скорой он еще подрался с санитарами, потому что они его назвали обезьяной – он у нас черненький, маленький, ершистый.
А я потом себе говорил, что это все от любви, оттого, что мы его любим, а он нами пренебрегает и надо любить его меньше, а лучше сделать над собой усилие и вообще не любить, и быть готовыми ко всему – убьют, закопаем.
Как его можно любить? Как? Он же каждый день другой, он растет и сегодня он уже не тот, что был вчера, а ты любишь вчерашнего, а перед тобой стоит чужой уже человек. Ты любишь чужого – так я себе говорил, убеждал, что все приму, все, что ни случится, только так, чтоб без дрожания губ и ресниц, чтоб заранее себя настроить, навострить.
А поехали из больницы забирать, и одежду теплую для него захватил. Там, правда, я ее ему швырнул, но потом, ночью, подходил к его кровати и слушал, как он дышит.
Так что тогда, на нашей присяге, отцы не знали куда себя деть – все верно, и мы были взволнованы и тоже не знали куда себя деть, ходили и улыбались.
А Генке Родину я отдавал свое яйцо.
Но это на пятом курсе.
Паек курсантский увеличили, кажется, на девять копеек, и нам стали каждое воскресенье давать на завтрак вареное яйцо.
За нашим столом в столовой четверо – я, Генка Родин или «Гешка», Вова Стукалов – кличка «Стукал» и Олег Смирнов – кличка «Сэ-Мэ-эР».
Мы со Стукалом были местные и с пятого курса ходили на ночь в увольнение, так что мое яйцо забирал Гешка, а Стукаловское – Олег, так и кормились.
До сих пор помню коричневые макароны, капусту кислую, а затем тушеную и сало свиное, заменяющее мясо.
– Ро-та-ааа!.. Сесть!.. – когда заходит рота в столовую, то она выстраивается вдоль своих столов и по этой команде старшины садится и ест, потом – заправить тарелки, ложки, то есть сложить их горочкой на угол стола, старшина пройдет, проверит и.
– Ро-тааа!.. Встать!.. На выход марш!..
После обеда мы обязательно перехватывали в ларьке пачку молока – ноль пять литра – и коржик, а то до ужина не дотянуть.
А на ужин – вечный рис, а мимо нас, рождая зависть, вьетнамцам везли тележки с жареной картошкой, но это только до тех пор, пока вьетнамцы не пожаловались: «У нас картошку ест самый бедный человек во Вьетнаме», – им хотелось нашего риса.
А еще нам очень хотелось мяса. Я и не знал раньше, что так может хотеться мяса, когда представляешь себе, какое оно по внешности и на вкус.
Мы его искали везде – в основном, на дне бачка с первым – там иногда выуживалось что-то напоминающее старую вареную парусину, которая разрезалась на равные кусочки на четверых.
Куском мяса мы особенно бредили после тренировок, когда под душем, без сил, лежали все ватерполисты и я в том числе, или когда поднимали гири, штангу. Жрать, жрать! – орало молодое тело. Оно хотело жрать всегда – мы никак не могли наесться.
А на тренировках огромные дяди из водного поло выставляли ногу на пути девочек-пловчих: «Бутерброд принесла?.. Какой-какой! Какой обещала!.. Тащи!!!»
Стыдно, но дома я мог съесть сковородку еды – а ведь она была на всех. Я краснел и сдавал бабушке свою училищную получку. На первом курсе – три рубля восемьдесят копеек, на втором – почти шесть рублей, на третьем – пятнадцать.