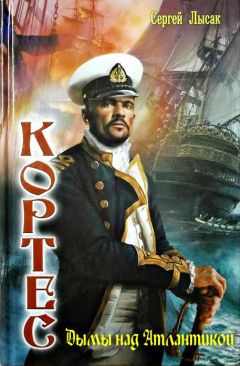Так или иначе, на следующее утро я проснулся с чумной башкой, но в остальном целый и невредимый, очень даже уютно устроенный под легкой, в чистом полотняном пододеяльнике, перинкой в квартире Стефани, в мансарде на седьмом этаже.
Стефани и Моник выжимали из апельсинов сок в кухне, смахивающей на школьную химическую лабораторию, укомплектованную вырезками из журнала «Эль», целой коллекцией склянок с разными уксусами и допотопными кофейными чашечками со следами губной помады всех цветов и оттенков.
— С добрым утром, мистер Америка, — крикнула она мне с другого конца залитой солнцем и забросанной разнообразными предметами дамского гардероба квартиры. — Идите сюда, ваш petit dejeuner[17] готов. Вы, надо полагать, проголодались.
Стефани.
Если Анна-Луиза способна всю жизнь преспокойно просидеть дома, украшая вышивкой обложки Библий в дар беднякам, то Стефани эгоистична до предела, за которым уже маячит аутизм: будь любезен таскаться за ней хвостом до рассвета по каким-то коктейль-гадюшникам и не рассчитывай, что она вызовется сама за себя заплатить, — и после всего будь готов к тому, что в последнюю минуту она тебя бросит и умчится на электричке в Нейи навестить маму с папой: ей, видите ли, взгрустнулось по дому.
Насколько Стефани эгоистична? В постели я прошу ее почесать мне за ушком — я от этого тихо млею, так нет же, ни за что и никогда, потому что если она уступит хоть раз, это превратится просто в очередную обязанность, в часть повседневной рутины долженствования. «Как это скучно» (в ее исполнении «скюшно»: у Стефани все гласные выходят чуть-чуть не так). Как привлекательно.
Начиная с того первого утра я безвылазно обосновался в квартире Стефани. Киви приволок из общежития мой рюкзак — и сам стал членом нашего «флинтстоуновского» семейства[18], составив пару с Моник, и естественным образом влился в наши летние обряды, жутко довольный, что мы с ним теперь аборигены, а не заезжие туристы, и по утрам, как и я сам, ходил осипший оттого, что во сне практиковался болтать по-французски. Мы загорали на крыше дома Стефани по улице Малле-Стивенс (где она жила за родительский счет), лоснящиеся от солнцезащитного крема; и Стефани и Моник, обе в темных очках, тянулись лицами вслед за солнцем — точно как головки цинний в документальном фильме о жизни растений. По вечерам мы выбрасывали кучу денег на лимонады и любовались парижскими закатами с крыши центра Помпиду, а потом спускались вниз на забитую еврошушерой площадь попередразнивать мимов и поглазеть на электронные часы, отсчитывающие секунды, оставшиеся до 2000 года.
Стефани — богатая девица из влиятельной буржуазной семьи. Она студентка-дилетантка в Сорбонне, и чихать ей хотелось на свою учебу, на всю эту мудреную химию (поди пойми, почему она ее выбрала!), и свободное время, которого у нее хоть отбавляй, она целиком тратит на еду и одежду, колдуя в кухне-лаборатории над миниатюрными порциями не вызывающих аппетита кулинарных сюрпризов и ведя с такими же, как она, богатыми бездельницами непримиримую войну за первенство в моде, оправдывая свои усилия тем, что это необходимая мера самозащиты. «Твой вид — в Париже это вси-о, Тайлер. Tout». На подоконнике над раковиной в кухне у Стефани выставлена коллекция уксусов — замысловатые флакончики с растворами, в которые чего только не понасовано: побеги эстрагона, почечки розмарина, картечные россыпи горошин перца — миниатюрные, изысканные на вкус, самодостаточные, но мертвые экосистемы. Дома, в Ланкастере, у Анны-Луизы террариум.
Честно ли сравнивать?
У Стефани короткие черные волосы, в отличие от длинных, пшеничного цвета волос Анны-Луизы. Каннибалы, скорее всего, не польстились бы на сознательно недокормленное тело Стефани, зато Анна-Луиза вмиг оказалась бы у них в котле. Анна-Луиза нет-нет да и побалует меня домашним пирогом; Стефани вынуждает меня бесконечно, иногда целый час, дожидаться ее в нашем условном месте, кафе «Экспресс», и только смеется, когда, вплывая наконец в дверь, натыкается на мою постную мину: «Девушки как ресторан, Тайлер, с южж—асным сервисом. Девушки заставляют тебя ждать и ждать и ждать и ждать и ждать и ждать и ждать, и когда ты говоришь себе, пропади он пропадом, этот ресторан, ноги твоей здесь больше не будет, перед тобой вдруг появляется что-то merveilleux[19], такое блюдо, о каком ты даже не мечтал».
Однажды на рассвете, возвращаясь из какой-то коктейль-дыры первым утренним поездом метро, мы вышли наверх на ближайшей к ее дому станции, которая, представьте себе, называется «Жасмин» (произносится «Жазма»), и потопали вверх по крутому склону, и нежный свет зари окрашивал все вокруг в оттенки невинности, и тут мы заметили юную парочку, очень похожую на нас самих, — он в «лётной» куртке и брюках-чинос, она в простом синем платье, с золотыми украшениями.
— Если ты им помашешь, — сказала Стефани, — и они в ответ помашут тоже, значит, они влюблены друг в друга и готовы быть шшэ—дрыми, делиться своей любовью.
— А если не помашут? — спросил я.
— Значит, у них нет шшэ—дрости и в жизни у них будет много боли.
Я помахал, а потом рассмеялся — парочка с улыбкой покивала мне в ответ. Но что интересно: сейчас, когда я вспоминаю этот момент, я как-то не уверен, что Стефани сама тоже им помахала. Хм-мм. Уж эти мне француженки! До чего непросты. Все-то они знают. Как-то я спросил Стефани, не обиделась ли она, когда я, неизвестно кто такой и откуда, подвалил к ней и ни с того ни с сего поцеловал ее в тот первый вечер в квартале Пор-Дофин.
— Нет, конечно. На что тут обижаться, — ответила она. — Мы животные. Наше первое побуждение, когда мы видим что-то прекрасное, — сразу это слопать.
Отпад.
Впрочем, не воображайте себе, что у нас была сплошная тишь да гладь. Мы часто спорили, и не только по пустякам, — как, скажем, когда препирались из-за наушников от стереоплейера во время долгих поездок в метро (в конце концов каждый отвоевывал право на свой наушник, и мы сидели, притиснувшись друг к другу, плечом к плечу, а «Грейтфул Дэд» надрывались на предельной громкости).
Как и многие другие европейцы, с которыми я столкнулся, Стефани получала кайф от спора как такового. Она постоянно меня подначивала, провоцировала, требовала реакции и обвиняла, в точности как Дэн, в занудстве, если я пропускал мимо ушей ее банальнейшие изречения на тему политики, финансов и религии. И тут мне на помощь снова приходило мое правило заранее напускать на себя скучающий вид. Подозреваю даже, что непробиваемое отмалчивание на все ее подначки и было главной причиной, почему ока соблаговолила проводить столько времени в моей компании, — думаю, я был полной противоположностью ее французским приятелям.
Не то чтобы мне было доподлинно известно, как именно Стефани общалась со своей французской тусовкой. Нас с Киви ни под каким видом к их с Моник приятелям не подпускали. Не то чтобы я или Киви из-за этого особенно дергались — мы уже насмотрелись на бескрылый, ни к чему не стремящийся евромолодняк, скопище юных пофигистов. Та еще публика! С кем из них я ни говорил, все без исключения в будущем мечтали стать госчиновниками. Тоска зеленая.
— Что ж это у вас тут, Стефани, все ребята словно выжатые. Где их здоровые амбиции? — спросил я как-то раз, сидя на крыше Центра Помпиду.
Стефани перевела разговор на другую тему.
То время, что я провел со Стефани, нельзя назвать словом «история». Это не было движение из пункта А в пункт Б и вообще куда-нибудь. Скорее это было предвкушение удовольствий, которые сулила мне Стефани. Стефани — манящая, неведомая, недосягаемая цель: свет в конце темного, освещенного редкими лампочками, туннеля метро, возвещающий о приближении следующей станции.
Я отвлекаюсь.
В августе был один случай, довольно странный. В Париже все было закрыто по причине воскресенья, и мы с Киви отправились разведать, что представляет собой один пригородный торговый центр, о котором мы что-то слышали. В Версале?… Вылазка оказалась зряшной — торговый центр не работал (вот так просто!), и в метро на обратном пути в Париж мной овладело ощущение какой-то беспризорности — беспокойное чувство, что все нити, которыми я к чему-то привязан, порваны, чувство сродни тому, что я испытал в поезде по дороге в Париж из Дании. И я сказал Киви, что чувствую себя бездомным, как улитка без раковины. Не прошло и пяти минут, как мы встретились с Моник и Стефани — в ресторанчике, где они бодро разделывались с блюдом горячих, приправленных чесноком улиток.
Из ресторана мы пошли глазеть на витрины — lecher la vitrine («облизывать витрины») — на Левом берегу, кружа в поисках всякой дребедени с изображением персонажей мультика «Тинтин»[20] и стикеров из майлара с изображением черепов, выясняя тарифы на аэробусы за бокалом какой-то дряни в очередном кафе, мечтая о том, как было бы здорово сейчас оседлать «веспу» и рвануть куда-нибудь, как здорово, когда у тебя есть такой мотоцикл, — вот где свобода! Пока мы сидели в кафе, мимо на трех лапах проковылял старый барбос, которого выгуливал на поводке седоватый местный Пучеглаз. К четвертой собачьей лапе, правой задней культе, был приделан протез с копытцем — абсолютно лошадиный. Вот уж поистине пример межвидового скрещивания! Вместо того чтобы расстроиться, мы рассмеялись.