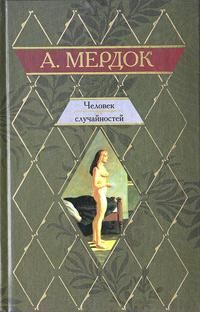Говорили они постоянно о каких-то мелочах, но еще никогда в жизни мелочи не казались Людвигу такими захватывающими. Болтали о еде, о прохожих, о прогулках по Лондону. Людвиг обратил внимание, что Грейс хоть и восхищается своими новыми переживаниями, тем не менее не прилагает никаких усилий, чтобы связать их в единое целое. Время от времени она расспрашивала его о том или ином историческом событии, но не для того, чтобы узнать что-то новое, а предоставляя Людвигу очередную возможность поразить ее своей эрудицией. «Ой, какой же ты всезнайка!» – восхищенно восклицала она, когда он сообщал самые известные факты из жизни Перикла, Кромвеля или Ллойд Джорджа. Сама же не делала никаких усилий, чтобы что-то из его рассказов запомнить. Иногда ее вопросы носили философский характер: «Страдают ли блохи в блошином цирке?» или «Почему высокие ноты называют высокими?» Он всегда старался дать ответ. Об Оксфорде, который до прихода решающего известия перешел в разряд табу, упоминали лишь вскользь – какие там дома, старые или новые, какие вокруг места. По-настоящему об Оксфорде Людвиг размышлял только наедине с собой, с радостью предвкушая будущее.
А где-то тем временем происходили совсем иные, страшные, события. Время от времени он пытался заговаривать с Грейс и о них, но она отмахивалась от всего, что казалось ей мрачным, бросающим тень на ее счастье. «Это все в прошлом, – однажды сказала она. – Было и сплыло, осталось позади. Ты принял решение. И забудь». В каком-то смысле мудрый совет. Людвиг объяснял себе нежелание Грейс вдаваться в волнующие его вопросы не равнодушием, а как раз наоборот, беспокойством. Она все еще волновалась, вдруг он все же уедет, и поэтому ее вдвойне пугали минуты, когда его вдруг начинали беспокоить и волновать вопросы, ее пониманию недоступные. Он попросил написать родителям, но у нее никак не получалось собраться. Это вполне можно было понять. Такое письмо нелегко написать.
Все эти вопросы, требующие разрешения, не давали Людвигу покоя. Тревожила размолвка с родителями, с которыми он раньше никогда не ссорился – вообще всегда был послушным сыном. А теперь их жизненные пути, кажется, начинали потихоньку расходиться. Их доводы не были для него убедительны, но уж одно то, что приходилось доказывать отцу обратное, задевало и ранило Людвига. Он ясно видел (и ему было их жаль), что они боятся осуждения соседей, боятся судебных тяжб, боятся полиции, не хотят «нарушить порядок», не хотят, чтобы их непрочная, недавно добытая «американскость» оказалась под угрозой разрушения; боятся и того, что «длинная рука» американских властей схватит сына, унизит и уничтожит. Различие взглядов на эту войну составляло, пожалуй, самый понятный пункт спора, о прочем и говорить не приходится. Они любили Америку, а Людвиг если и любил, то совсем иную страну, чем его родители. Он перенес бы страдание, вызванное размолвкой, но в том случае, если бы был полностью уверен в себе.
В правильности своей оценки войны он не сомневался. Внешне все казалось простым и понятным. Но глубинная суть… Неужели родители и в самом деле считают, что им руководят только материальные соображения, что он предпочел здешнюю удобную жизнь гражданским обязанностям, что он обыкновеннейший трус? А сам он как считает? Несомненно, он любит Англию, разумеется, хочет попасть в Оксфорд и, конечно же, боится – на его месте всякий бы боялся умереть на этой войне. Но по ту сторону океана никого не интересует, что он думает и какие у него принципы. Здесь все легко. Все тяжелое осталось там. Может, ему следует вернуться и принять на себя эту тяжесть? В какой степени необходимо страдание? Насколько оно необходимо ему? В какой степени необходимо это подражание Христу? Должен ли он выступить героем драмы, или лучше обойти сцену стороной? Честно ли это по отношению к тем, у кого нет возможности уклониться; достойно ли это? Как он писал родителям, тюрьмы он не боится, примет заточение с охотой, только одно его по-настоящему пугает – что ему навсегда подрежут крылья. И тогда прощай, паспорт, Европа, мир науки, и никогда он не сможет развить свой талант. Это было бы падение в бездну, которого он страшился. Но в признании законности своих мотивов, идя, в сущности, по легкому пути, разве не был он на волосок от бесчестья? Время от времени он даже представлял, что возвращается и, как все, надевает военный мундир. Имеет ли он право считать себя исключением?
А сейчас рядом с ним Грейс, за которую он отвечает, которая связывает его с новым миром, привлекательным и одновременно тревожным. Общество англичан, в которое она ввела его, было свободным, либеральным и легкомысленным. Здесь, кажется, никому и в голову не приходило, что можно переживать разлад с собственной совестью из-за такого пустяка – возвращаться в США или нет? Никто об этом не собирался заводить разговор, никто этим не интересовался, не старался вникнуть. А может, они вели себя так из деликатности? В общем, по их поведению трудно было судить об этом. А принципиальный разговор с Гарсом, которого он с нетерпением ожидал уже несколько месяцев, все откладывался и откладывался. Только раз он встретился с Гарсом, и то на минуту, после чего тот погрузился в свои дела в Ист-Энде. Неужели Гарс избегает встречи из-за Грейс? Возможно, он с презрением отнесся к этому выбору и считает, что их дружба закончилась? Прежняя теплота исчезла из их отношений после того, как Людвиг обручился. Какова бы ни была причина, Гарс где-то пропадал и появляться не собирался. Ну и черт с ним, иногда думал Людвиг, если причиной тому больное воображение. Встретимся – хорошо, не встретимся – значит, так тому и быть, а бегать за ним не собираюсь. И все же этот разговор ему был нужен как воздух.
Между тем Грейс требовала показать очередное кольцо.
Пользуясь тем, что продавец отошел, Людвиг проговорил вполголоса:
– Эй, малышка, эти игрушки не для нас. Такое колечко мне не по карману. Одно такое потянет на весь мой банковский счет. Пошли отсюда. Скажи ювелиру, что нам надо подумать.
Но, одарив его обворожительной улыбкой, Грейс взялась пересматривать самые роскошные кольца.
– Грейс! – не сдержался Людвиг. Прикрикнул почти как хозяйственный муж, знающий цену деньгам…
– Тс-с! – махнула рукой Грейс. – Дай сосредоточиться.
– Милая, ну подумай…
– Но ведь это вложение денег.
– Но, моя умница-разумница, чтобы деньги вкладывать, надо их сначала иметь.
– Успокойся, Людвиг. За это кольцо не ты платишь. Наверное, возьму вот это, – обратилась она к продавцу. – Возьмете чек? У меня при себе паспорт и кредитная карточка. Если не верите, позвоните в банк.
Продавец поспешно заверил, что в честности клиентки ничуть не сомневается. Грейс выписала чек на кругленькую сумму.
– Не упаковывайте. Я сразу надену. Людвиг, можешь надеть мне на палец? Нет, на этот. Вот так. – И завертела ладошкой, стараясь поймать камешком лучик света.
– Поздравляю с удачной покупкой, – на прощание произнес продавец, – и разрешите пожелать вам всего доброго. Бриллианты – это, как говорится, навсегда.
Они уже выходили из магазина на пыльную, солнечную Бонд-стрит, когда Людвиг придержал Грейс за юбку вспотевшей рукой.
– Куколка, ты, наверное, сошла с ума? Неужели у тебя найдется столько денег?
– Да, сейчас уже есть, – невозмутимо ответила Грейс. – И отпусти юбку. – Она остановила такси. – К «Савойе», пожалуйста.
– Что значит «сейчас»?
– Бабушка все оставила мне.
– Все… тебе?
– Да. Дом, акции и ценные бумаги, счет в банке, словом, все. Я очень богата. Ты берешь в жены богатую наследницу.
– Господи! Все тебе? – Людвиг со вздохом откинулся на спинку сиденья.
– Все.
– И ничего матери и тетке Шарлотте?
– Ни шиша.
– Но ты должна им хоть что-то дать. Ради справедливости… ведь тетка Шарлотта…
– Надо уважать волю покойной. Смотри, какой огромный бриллиант. Ты такой когда-нибудь видел?
* * *
Она вдруг испугалась.
На пороге стоял посыльный с цветами.
Цветы наверняка для Элисон, для кого же еще. Вот только Элисон уже нет.
Шарлотта разобрала название фирмы на бумаге, укутывающей букет, но от кого цветы, так и не поняла: визитки в букете не оказалось. Это были красные гладиолусы. Она отдала букет назад.
– Это для миссис Ледгард?
– Нет, цветы для…
– Наверняка какая-то ошибка. Вы перепутали адрес.
– Нет…
– Ну хорошо, спасибо. – Она схватила цветы и захлопнула дверь.
Принесла букет в гостиную, успокаивающе пахнущую лимоном. Внимательно оглядела цветы. Нет никакой визитки. Да, наверное, прислал кто-то, еще не знающий, что Элисон умерла. Может, отнести на могилу, или так нельзя? Все равно. И вдруг подумалось: а может, это Мэтью прислал для меня? Он в Лондоне, но еще ни разу не дал о себе знать, как и все эти долгие годы. И вот эти цветы. Она зажмурилась.
А когда открыла глаза, то в окно увидела, что посыльный все еще стоит перед домом. Явно не знает, что делать. И он тоже заметил, что Шарлотта на него смотрит. Через минуту снова раздался звонок в дверь.