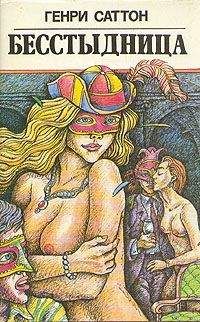— Она так хочет остаться с нами, — повторил он. — Всей душой прикипела к нам. Не может ли случиться так, что мы повредим ей, если снова отошлем прочь?
— Может, — сказала Карлотта.
— Ну так что же?
— А где ты будешь — или где мы будем — этой осенью?
— Не знаю, — признался Мередит. — Может быть, и здесь.
— А как же фестиваль в Венеции? Как премьера «Двух храбрецов» в Нью-Йорке? Катание на лыжах в Кортина д'Ампеццо? Ты от всего этого откажешься?
— Мы можем взять Мерри с собой.
— Вместе с наставником? — А почему бы и нет.
— Потому что это ее погубит, и ты сам это знаешь. Должен же быть порядок и смысл в ее жизни. Мы любим ее, но любовь это еще не все. Одной любви недостаточно.
— А ты любишь ее? Ты в этом уверена?
— Конечно. И ты это тоже знаешь.
— Тогда как ты можешь так говорить? Как ты можешь так легко отослать ее обратно?
— Ты же знаешь, насколько тяжело мне дается это решение. Что у меня сердце из-за этого разрывается.
— Извини, — сокрушенно сказал Мередит. Он понял, что зашел слишком далеко. Он сидел, понурив голову и коря себя за то, что позволил себе аргументы, уместные скорее в перепалке врагов, чем на семейном совете. Не должен он так говорить. И даже думать. Ничего, он начнет сначала. Предварительно все обдумав.
И вдруг неожиданно для самого себя он выпалил:
— А почему бы нам не усыновить ребенка? Это было бы хорошо и для Мерри и для нас обоих. Мы вполне можем себе это позволить, а наша жизнь тогда наполнилась бы новым смыслом… И почему мы раньше до этого не додумались?
— Нет.
— Почему нет?
— Я категорически против. Разве тебе недостаточно одной Мерри?
— Нет, — ответил Мередит. — Мне недостаточно.
— А я против, — сказала Карлотта.
— Но почему? — не унимался Мередит. — Неужели только из-за того, что тебе когда-то вздумалось сделать аборт, мы должны калечить свою жизнь? Почему мы должны страдать из-за того, что не имеет к нам никакого отношения?
— Это имеет к нам отношение.
— Каким образом? Какой-то сукин сын затащил тебя в постель, а мы должны за это расплачиваться? Я просто тебя не понимаю. Нет, ты не подумай — мне очень жаль, что тебе пришлось сделать аборт и удалить матку. Но пойми сама: что сделано, то сделано; это ушло в прошлое, и мы не должны из-за этого страдать. Я по крайней мере.
— Нет, — сказала Карлотта. — Ты тоже должен страдать.
— Я?
— Да. Этим сукиным сыном был ты.
— Что? Но почему? О Господи, почему?
Карлотта рассказала ему обо всем, что случилось, и объяснила, насколько сумела, почему поступила именно так, надеясь, что Мередит сумеет ее понять и хоть немного облегчит ее боль, разделив с ней это тяжкое бремя. Мередит сидел как громом пораженный.
— О Боже! — только и выдавил он, когда Карлотта закончила.
— И вот теперь, — продолжила она, таким спокойным тоном, словно речь шла о чем-то совершенно обыденном и привычном, — я и в самом деле счастлива оттого, что Мерри с нами, и я люблю ее и отношусь к ней, как к собственной дочери. Я ее очень люблю, Мередит.
— Да, — медленно произнес он. — Я знаю. Теперь я это понял.
— И я хочу, чтобы ей было лучше.
— Хорошо, — сказал он. — Я согласен.
— Хотя это ужасно, я понимаю.
— Да, — сказал Мередит. — Но как мне объяснить это Мерри? Бедная девочка ужасно расстроится.
— Скажи ей… Скажи, что мы с тобой это обсуждали и я решила, что так будет лучше для тебя.
— Но она тебя возненавидит за это!
— Ничего, это не навсегда. Главное, чтобы она не возненавидела тебя. Для девочки в пубертатном периоде самое главное — сохранить теплые и доверительные отношения с отцом.
— Ты говоришь так, словно изучала этот вопрос по книгам.
— Так и есть.
— Ты — удивительная женщина, — вымученно улыбнулся Мередит. Но на сердце у него скребли кошки, а грудь, казалось, сдавил тугой обруч.
И вдруг Мередит вспомнил, что Карлотта сказала что-то необычное… Что же? Ах, да.
— А что это за «пубертатный период»? — спросил он.
— Это значит, что девочка вступила в пору полового созревания, — ответила Карлотта. — На прошлой неделе у нее были первые месячные.
— Вот как? А ты…
— Да, я ей все объяснила. Мы говорили почти полдня. Она отнеслась к этому очень спокойно, даже по-философски. И расспросила меня во всех подробностях. У нее очень светлая голова.
— Да, — вздохнул Мередит. — Это так. — И еще она меня немного позабавила.
— Как?
— Я рассказала ей, как происходит половой акт. Она внимательно все выслушала, а потом спросила: «А зачем люди вообще занимаются этим?» И я не нашлась, что ответить.
Мередит рассмеялся.
— А зачем, в самом деле, этим занимаются? — переспросил он. Потом предложил: — Пойдем погуляем у озера.
На следующее утро после завтрака Мередит сказал Мерри, что они с Карлоттой посоветовались и решили, что лучше для Мерри будет вернуться в Штаты, в школу.
— Вы с ней вместе решили? — спросила Мерри.
— Да.
— Или только она? — Нет, мы вместе.
— Но ведь это она сказала, что мне лучше вернуться в Штаты?
— Я с ней согласился.
— Значит, это она?
Мередит ненадолго призадумался. Он чувствовал, что поступает очень скверно, валя все на Карлотту. Но он вспомнил слова Карлотты о том, что для дочери самое главное — сохранить с отцом теплые и доверительные отношения. К тому же ведь он говорил правду — именно так все и было на самом деле. Поэтому он ответил:
— Да.
— Так я и думала, — сказала Мерри.
Она не уронила ни слезинки и даже не обиделась, но оставшиеся до отъезда дни казалась задумчивой и отчужденной. Она держалась вежливо и всегда отзывалась, когда к ней обращались, но все же и Мередит и Карлотта видели происшедшую с Мерри перемену. Как будто ей было не тринадцать лет, а значительно больше. Карлотта сказала, что было бы лучше, если б Мерри выплакалась или даже на ком-то сорвалась. Но Мерри держалась спокойно.
А вот Карлотте с трудом удавалось сдерживать слезы. Собственный ее ребенок, ее маленький сын, погиб. Другого ребенка, ее и Мередита, она умертвила сама, пойдя на поводу у собственной гордости. Тогда ей казалось, что она поступила правильно. И вот теперь девочка, которую Карлотта любила как собственную дочь, да и считала собственной дочерью, чувствовала себя отвергнутой. Не скоро Мерри поймет, что Карлотта поступила так только ради нее самой; что только любовь и одна лишь любовь подтолкнула Карлотту к тому, чтобы принять столь трудное решение. Прощаясь с ними в аэропорту, Мерри не поцеловала Карлотту. Возможно, никто больше этого даже и не заметил. Мало ли что может случиться в предотъездной суматохе. Но вот Карлотта поняла, в чем дело, и долго не могла этого забыть. И еще долго с тех пор на глаза ей вдруг ни с того ни с сего наворачивались слезы. Словно вернулось то трагичное время после аварии, в которой погибли ее муж и ребенок. А хуже всего было теперь то, что, кроме Мередита, у нее не осталось ни одного близкого человека. Мередит же после того, как Карлотта рассказала ему то, чего поклялась сама себе никогда ему не рассказывать, казался мрачным и погруженным в свои мысли. Вот и теперь он сидел с самым мрачным видом. Возможно, думала Карлотта, он только кажется ей таким, поскольку ей самой так грустно и одиноко.
— Розенберг! Макартур! Трумэн! Говорю тебе — нам нужно какое-нибудь громкое имя.
— Мы же давали материал об Этель Розенберг.
— Ха! Представляю, как кабскауты[11] станут заниматься онанизмом, любуясь на фото Этель Розенберг.
— Ты перепутал — кабскауты не занимаются онанизмом. Ты имел в виду бойскаутов.
— Ты сам перепутал. Ты и в школе был двоечником.
— Так что — сделаем материальчик про кабскаутов?
— Гениально! Это лучшая мысль с тех пор, как кто-то предложил тиснуть статейку о писательских задницах. Кстати, это был не ты?
— Может, тогда про сифилис напишем?
— Про сифилис у бойскаутов? Правильно! Выведем их на чистую воду.
— Можно про сифилис у герл-скаутов. Это куда заманчивее.
— Нет, это то же самое. От кого, по-твоему, заражаются бойскауты?
— От других бойскаутов.
— Это ты у Дж. Д. Сэлинджера вычитал?
— А кто это такой?
— Брось, не придуривайся: это самый свежак в нашей литературе. Все от него тащатся.
— Все писатели — жуткие зануды. Только и могут, что писать.
— Это все редакторы — жуткие зануды. Только и могут, что вешать лапшу на уши.
— А как насчет этих новых старлеток, которые готовы сниматься нагишом?
— Кого ты имеешь в виду, умник?
— Барбару Стил, например.
— Нет, с кабскаутами у тебя получилось лучше.
— Может быть. А какие-нибудь премьеры у нас наклевываются?
— Да. «Два храбреца».