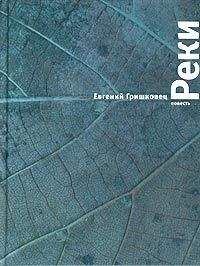Ознакомительная версия.
Когда я хотел то, что хотел, мороженое или какое-то развлечение, и у меня в принципе, было достаточно моих монеток, чтобы оплатить это, я все равно старался, чтобы родители заплатили. Мне было жалко своих денежек, я хитрил и юлил. И еще, я все равно понимал, что покупка чего-либо – это взрослая прерогатива. Откуда я понял это, каким образом чувство денег появилось во мне?
Я не чувствовал внутренней необходимости в том, чтобы ходить в детский сад, а потом в школу, я даже, наоборот, не хотел этого. Я ждал каникул, праздников и выходных, я даже с удовольствием болел, только, чтобы не ходить в школу. Но так могло продолжаться неделю, две, месяц или все лето. Но чтобы вообще не ходить в школу, то есть её бросить?… Всерьез такая мысль даже пугала, она просто не рассматривалась, как серьезная. И не в смысле, что там, в школе, я должен и могу получить необходимые знания, а без этих знаний у меня не будет хорошей профессии. Я помню, как родители говорили: «Ну-у, с такими оценками только в дворники. Хочешь быть дворником, продолжай в том же духе». Меня не пугало это… Просто, а как совсем без школы? Как?…
Когда-то меня маленького привели в детский сад, и я попал в какую-то группу, в смысле, в каждой группе должно быть какое-то ограниченное количество детей, нас и распределили по группам. Не думаю, что был какой-то критерий или какая-нибудь причина, кроме возраста, чтобы одних детей туда, а других сюда. Так же и в школе, я попал в тот класс, в который попал. Попал вместе с другими ребятами, которые просто жили в тех домах, которые окружали нашу школу. Нас раскидали по классам А, Б, В и все.
Почему я сразу полагал, а потом был уверен, что моя группа и мой класс лучше, чем другие? Ни воспитатели, ни учителя, ни родители нам такого не говорили, и даже косвенно на это не намекали. Откуда?…
В какой момент я стал бояться милиционера? И почему я стал его бояться? Я же к тому моменту ничего плохого не совершил, и не собирался, и даже не думал, что смогу сделать что-то такое, в смысле, не шалость, не побег в другой двор, и не драку в песочнице, а такое, за что может тебя наказать милиционер.
Я машин на улице, которые действительно могли меня покалечить или убить, боялся меньше милиционера. Точнее, я боялся, что если меня собьет машина, то об этом узнают родители, а еще страшнее – милиционер. Милиционер был даже не человеком, с характером, привычками или просто индивидуальными особенностями. Он был Милиционер! Он казался вездесущим и неотвратимым. А я тогда ничего не знал про закон, про меры наказания и даже не знал, что собственно мне может сделать милиционер. Почему я стал его бояться? Что это было такое? Только я хочу сказать, что я маленький уже чувствовал на себе тяжесть государства и всей страны.
Нас в детском саду и в младших классах школы учили петь хором под пианино:
То березка, то рябина,
Куст ракиты над рекой.
Край родной, навек любимый,
Где найдешь еще такой? (два раза)
Когда я пел это, я не думал, что я участвую в каком-то культурном развитии меня. Я даже не слышал собственного голоса. Мне было просто очень не весело, но я стоял и пел. Мы стояли возле пианино, страдали, а за окном, во дворе детсада, бегали и играли дети из других групп, которые уже отпели или им еще это предстояло.
Может быть, от невыносимо грустной музыки, которой сопротивлялась во мне каждая моя клеточка, жаждущая веселья, или от вынужденного неподвижного стояния во время пения, что было тоже невыносимо, может быть, от этого во мне возникло несколько серьезных вопросов к этой песне.
Во-первых, меня заинтересовало, а что такое «на век любимый»? Слово «век» мне было непонятно. Я спросил папу и получил ответ, что век – это сто лет. Сто – было много!
Сто лет я должен любить край, в котором то березка, то рябина, то есть ничего интересного для меня. «Где найдешь еще такой?» Из этих слов я должен был сделать вывод, что нет ничего лучше края, где то березка, то рябина… Но почему тогда музыка-то такая грустная? Эта музыка требовала, чтобы мы тоже пели грустными голосами. И я тогда думал (я правда так думал, а не для красного словца здесь это пишу), что значит любить «край родной, навек любимый» это трудное, невеселое и очень долгое занятие, похожее на работу. На такую работу, которую постоянно, медленно и с грустным лицом делает дяденька, у которого были ключи от сарая, стоящего в дальнем углу двора нашего детсада. В этом сарае у него были лопаты, метлы и прочие скучные вещи.
Однажды, в одной красивой католической стране я зашел, весь преисполненный туристического благоговения, в большой, старинный и очень красивый готический собор. Внутри он казался даже еще выше, чем снаружи. Собор был огромен. Людей в нем было скорее не много, они сидели на деревянных скамьях редко-редко. В основном это были старики. Шла служба, священник говорил и говорил, периодически все присутствующие в соборе вставали, говорили что-то хором и садились. Так же периодически пел маленький хор. Хор состоял из мальчиков разного возраста, они были одеты в длинные рубахи… очень длинные. Я присел на скамью и стал слушать и смотреть. Свет от витражей давал ощущение мягкого солнечного дня за пределами собора, хотя там было туманное и сырое утро.
Я слушал хор, который звучал так грустно и думал, что вот ведь, как прекрасно, как красиво и приятно заходить в такую чудесную церковь. Какой здесь свет! И наверное я бы тоже с удовольствием с детства ходил бы сюда и может быть пел, и представлял бы себе, как пятьсот или даже больше лет назад здесь так же молились люди и мальчики тоже пели. Я сидел и думал, что может быть вон тот старик, которого привезли сюда на мессу в кресле-каталке, когда-то пел здесь, будучи мальчиком, и не думал, что станет стариком. Но как же прекрасно здесь, говорил я себе! Вот так течет жизнь красивого старинного города, течет вокруг этого собора. А в Сибири пятьсот лет назад даже…
Я стал рассматривать мальчиков в хоре. Один из них, самый крайний во втором ряду, пел, но смотрел куда-то вбок и вверх. Я посмотрел туда же и увидел несколько птиц, которые залетели как-то внутрь, а теперь скакали и перелетали с выступа на выступ, высоко, возле верхнего окончания стрельчатого окна. Сквозь витраж этого окна струился свет. Я повнимательнее посмотрел на мальчика, на то, с какой тоской он поет, и вдруг отчетливо увидел, что его тоска – это не чувство проживания той музыки, которую он исполняет в прекрасном храме, а самая настоящая тоска. То есть когда мальчику не весело. Я посмотрел на то, как он смотрит на птиц, и на свет из окна… Я тут же узнал этот взгляд, и свет из окна и тоску…
* * *
Я понимаю теперь, что страна тогда, когда я был маленьким, а потом юным, никак мною не ощущалась. Я конечно знал, как звучит наш гимн, я знал, какой у нашей страны флаг, и знал, что страна у нас самая большая, хорошая и сильная. Мне от этого было спокойно. Я довольно часто рисовал войну, где наши самолеты и танки уничтожали, скажем, не наши танки и самолеты. Но я же в тот момент рисовал не какую-то патриотическую картину, я вообще не создавал какого-то художественного произведения. Я рисовал бой потому, что было приятно, рисуя танк или самолет, изображать голосом и губами звук двигателя. Когда я рисовал огонь из пушки или пулемета, я громко изображал выстрелы, а когда я мощными движениями по листу изображал дым от горящего и падающего вражеского самолета, я громко завывал. Вот! Мои эти картинки имели для меня интерес, пока я рисовал, а само изображение было не важно. Я же не рисовал войну. Я играл.
Мне, конечно, нравился и нравится Гагарин, и мне было приятно, что он наш, не из Сибири, конечно, а просто Наш. Но он всем нравился и нравится. Все должны быть рады, что первым был Гагарин. Всем повезло с ним, с тем, что он такой… бесспорный. И повезло с Гагариным не только нашей стране, но и всем странам…
Наша страна что-то делала, правительство чем-то занималось, что-то происходило. Меня это не беспокоило, от этого я был защищен родителями. Они смотрели новости, отец читал газеты, их тревожили новости и газеты. А меня гораздо сильнее тревожило, пугало и терзало, если родители ссорились и ругались… Вот это уже было всепоглощающе ужасно и никто не мог с этим помочь. Страна-то уж точно. Да я и не думал о ней в такие моменты, как о субстанции или силе, которая может помочь.
Мужики, рядом с которыми я сидел на стадионе нашего города, когда был постарше и ходил на футбол. Вот они понимали, как устроена страна, и знали все взаимопроникающие процессы, которые в ней происходили.
Летом я ходил на футбол. Наша команда играла не лучше других команд, которые приезжали в наш город, а часто много хуже… Но футбол все-таки футбол. Я любил поорать с мужиками: «Череп, давай!» Так мы кричали нашему лучшему футболисту. Он был лысый, и поэтому его звали Череп. Мне приятно было вместе со взрослыми покричать взрослому и известному человеку: «Череп, давай!»
Ознакомительная версия.