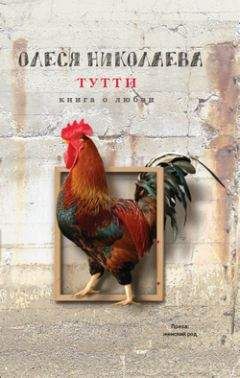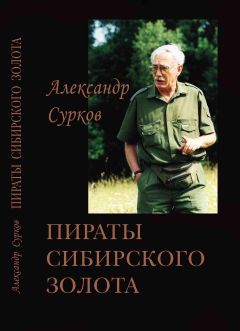– Может быть, – вздохнула Анна. – Но только что за беда? А может, ты тайно любишь кого-то, тоскуешь и не можешь себе признаться, так прямо по имени и назвать, и потому облекаешь тайну эту в символ – Тутти?
Ну вот: Тутти – это еще и «тайная любовь».
Боже мой! Действительно, сколько людей я хоронила, сколько умерло, порой с запозданием посылая вести о своей смерти и повергая меня в какое-то отсроченное страдание. А ведь это, кажется, и есть невроз? Ну да, «отложенное страдание» – невроз и есть.
Какие странные эти подспудные сюжеты жизни, протекающие с разной скоростью, – одни движутся еле-еле, другие стремительно разворачиваются, сталкиваются, пересекаются, обгоняют и настигают, когда уже вроде бы все позади… Что-то по поверхности скользит, а что-то в глубинах проистекает. Давнее, прожитое машинально, наспех, но в этих глубинах не перемолотое, не переваренное, вдруг просыпается, сгущается, уплотняется, ворочается под спудом болезненно да как встанет, как поднимется ниоткуда, словно в фильме ужасов, в полный рост. Дядька Черномор такой из темных вод, а с ним – все тридцать три богатыря. В принципе, можно жизнь свою с любого ее сюжета начать разматывать, с любой из ее подземных рек обозревать: все равно в каких-то точках все начнет переплетаться со всем.
Или вот эти «потоки рода»: «Фарес родил Есрома; Есром родил Арама; Арам родил Аминадава; Аминадав родил Наассона…», – катятся себе последовательно: прабабушка-бабушка-мама-я-дочери-внучки… Но в какой-то момент дочь по возрасту настигает мать, нагоняет отца, и тут они заново открываются ей, и она начинает так чутко все слышать и чувствовать, и обостренно видеть, и отчетливо понимать. Вот сейчас бы и поговорить, и прильнуть, но – поздно уже, опоздала, ибо они соскользнули уже с этого круга жизни, они уже – там, там, за чертой. И тогда уже, томясь в разлуке, с ними, умершими, начинаешь общаться, и так живо чувствуешь их, укорененных в самом бытии.
Удивительно, что чаяние «воскресения мертвых» – это не педагогика, это не психология, это ни много ни мало мистика и догматика. В Символе веры – не просто «верю» или даже «верую», но – «чаю». То есть нет у верных никакого сомнения в том, что мертвые – во плоти оживут, но – непреложное желание и радостное есть ожидание, что это непременно произойдет. «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь». Буди, буди!
…А скрипочки какие-то деликатно все пиликают-пиликают себе, ведут свою тему, а виолончель где-то там, еле слышным фоном, на задах – свою, а у гобоя другая какая-то, отдельная партия, а у рояля – своя, а ведь и ударные погромыхивают, и орган звучит вдалеке, и вдруг они как пустятся в аллегро виваче, как сойдутся все в одном контрапункте, каждый принес свое, и – форте, фортиссимо! – дирижер так палочкой и трясет в вышине, черный фрак его аж дрожит. Прядь волос падает на потрясенное лицо.
Дочь моя старшая Александрина все эти сюжетные потоки, движущиеся с разной скоростью, замечательно раскопала у Пастернака – и в стихах его, и в прозе, даже выступала с докладом на пастернаковской конференции в Милане: «Образ поезда у Пастернака» – как-то так. Все даже встали, когда она закончила, и хлопали стоя. Она вообще такая – закрытая, сдержанная, интеллектуальная. Мне до ее умозрений не долететь. Если бы она не была так хороша собой, стала бы точно книжным червем, синим чулком: все бы ей по читальным залам сидеть, тонким скальпелем распутывать психологические колтуны, развязывать тугие метафизические узлы. Тоже ведь как-то от меня свои кордоны выставляет, и там, где у меня – только догадка, порой совсем завиральная, у нее – точная научная аргументация. Там, где у меня – сумбурное эссе, у нее – выверенная статья.
Так вот – эти потоки, омуты, завихрения, подводные течения, временные пласты… Сколько поэтов – тех, с которыми я дружила, училась в Литинституте, сидела на семинаре Слуцкого, на вечерах поэзии – умерло, погибло еще в юном возрасте, сгинуло неизвестно где. И я узнавала об их кончине порой с опозданием, когда все это уже быльем поросло. Весть нагоняла меня, когда я была уже далеко, волна накрывала меня с головой, сбивала с ног и утаскивала в открытое море – туда, назад… Так в детской игре двигаешь себе свои фишки по клеточкам – то на три вперед, то на пять, а потом попадешь на какую-нибудь черную клетку и оттуда уже скатываешься назад: давай снова начинай свой путь. А то – на красную, и тогда вылетаешь вперед, минуя засады, сразу через пять клеточек перескакиваешь, через семь!..
Сколько было талантливых, блистательных молодых людей – одна сорвалась с балкона, другая уснула с сигаретой и сгорела, третий повесился, четвертый утонул, пятый – в психушке доживает свой век, шестой – попал в тюрьму и, отмотав срок, остался бомжом: жена развелась, брат приватизировал их общую квартиру и продал, и концов не найти.
Этот несчастный сиделец – поэт Сережа – иногда приходит к моему мужу в храм:
– Володька, дал бы деньжат.
– Что с тобой приключилось?
– Как есть я – человек презренный и бездомный. Подрабатываю сторожем в подмосковном храме. Дай хоть сколько, а? Вместе ж учились. Литинститут помнишь?
– А стихи пишешь?
– Пишу, еще как пишу.
– Ладно, держи деньги, но в следующий раз приноси стихи. Ты же талантливый человек! Мы их в журнал какой-нибудь отдадим.
– Принесу, принесу.
Через какое-то время он появляется вновь:
– Володька, подкинул бы деньжат, а?
– А стихи принес?
– Не принес, но принесу, принесу…
Как-то раз стою я в рождественский сочельник в храме, где служит мой муж, и подходит ко мне испуганный охранник:
– Там какой-то страшный бомж сидит перед входом в храм на диване. И уходить не хочет: я, говорит, с отцом Владимиром учился, я его жду. Вы не можете посмотреть, кто такой, а то уж больно страшный. Может, милицию вызвать?
Я подошла к дивану, на котором сидел, развалившись, огромный, страшный, грязный, обросший седыми волосами мужик. Он повернул голову в мою сторону и наставил на меня бессмысленный немигающий глаз.
– Дорогая моя! – засмеялся он. Но глаз продолжал смотреть, не мигая, бесстыдно и бездушно, как смотрят из преисподней: он был мертвый, он был искусственный, он был вставной, этот ужасный глаз!
– Узнала, ну? Или не узнала? Глаз-то у меня, поняла ты? – вставной. Ладно, слушай, чтобы мне Володьку не ждать, подкинула бы мне деньжат, а? Ради праздничка! Я ведь тоже – при храме.
– А ты стихи принес? – спросила я, доставая кошелек.
– Стихи? Да я их засунул куда-то, не могу найти. Потерял, наверное. Ну да ничего, я новые напишу, еще лучше. Принесу тебе их, принесу!
Взял деньги и побежал, радостный, но вдруг остановился и воскликнул:
– С Пасхой тебя!
– В смысле – с Рождеством?
– Ну да, с Рождеством, с Рождеством, но и с Пасхой уж – заодно.
Я вспомнила вдруг, каким он был в институте – талантливый, экстравагантный, красив безумно. Глаза на пол-лица, живые, любопытные, с куражом. Стихи он читал превосходно, чуть-чуть притопывая в такт, жестикулируя, очень получалось… суггестивно. Костюмчик на нем был всегда один и тот же – коричневый, из которого он вырос – узок в плечах, рукава коротки, брючки коротковаты… Было видно, что он из очень бедной семьи. Тем самобытнее и ярче казался его поэтический дар: просто так, ни за что, ниоткуда, с небес. Пил он, правда, много – все время под хмельком. Но не пил-то тогда – кто? Только презренный мещанин да обыватель, который копейку копит к копейке и хранит в носке, чтоб стенку купить, – вот кто не пил. Карьерист советский, партийный, хотя карьерист тоже пил. Но я с ним, не с карьеристом, а с этим Сережей, честно говоря, дружбы никакой не водила, потому что была зла на него. Он все время устраивал какие-то провокации. Звонил мне поздно ночью, видимо, из веселой подгулявшей компании – всегда был этот фон: смех, ор, пьяные выкрики. И говорил, громко называя меня по имени:
– Дорогая моя, прости, что сегодня к тебе не пришел. Я тут с друзьями. Ну, ничего, не плачь – я завтра приду.
Я ему:
– Какой же ты гадкий мистификатор! Перестань делать вид, будто у нас роман.
А он:
– Так ты хочешь, чтоб я прямо сейчас к тебе приехал? Ночью? Ну хорошо…
– Негодяй! – срывалась я, бросая трубку.
А потом он куда-то пропал на множество лет, чтобы вынырнуть вдруг вот так – со стеклянным глазом.
А некоторые – просто тихо спивались в своем углу или, затаившись, умирали от рака. А кто-то просто переставал писать стихи. Поэты – они, как шизофреники, находят друг друга, образуют незримые сообщества и пронизывают собой, как щупальцами, весь социум.
В принципе, я эту мощную социальную прослойку рифмующих людей с некоторых пор побаиваюсь, недолюбливаю – люблю только нескольких, на пальцах можно пересчитать, поэтов: «лично» люблю «штучных». Не люблю, как они «врубаются», аж душу готовы заложить, сходят с ума, «сгорают до черноты», чадят… Ходят такие, уже сгоревшие, испепеленные, стихотворных своих уродцев ведут за собой – у кого недостает гена, у кого лишних – целых два. Я тоже когда-то в юности так «врубалась»: «одна – из всех, за всех, противу всех!» Ночевала с Цветаевой под подушкой. Даже и установка у меня такая была – противу всех! Я и в компанию не могла прийти, чтобы там что-нибудь не отчебучить, фортель какой-нибудь поэтический не выкинуть. Как бы даже и обязана была что-то этакое сказануть, жест сделать. Мол, «вы – с трюфелем, я – с дактилем!». Как бы это – noblesse oblige. Это потом лишь я поняла, что надо мне от Марины Ивановны спасаться, а не то – погубит, спалит, сожрет…