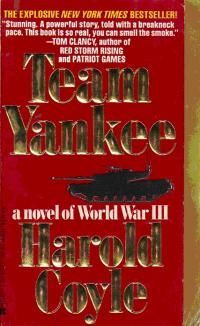Мы ведь часто не заботимся о том, как выглядим в глазах окружающих. Садимся в лужи, оказываемся не в своей тарелке и в результате попадаем в простаки. Но я издавна веду себя осмысленно: каждый мой жест, каждый тик, каждое ругательство есть единица поведенческого текста, который пишу всю мою приключенческую жизнь. Мне всегда весело, мне все трын-трагедия. А если иногда взгрустнется, то набираю мой номер в Никсонвиле и слушаю мультиязычное обращение на автоответчике: «Hello, this is Harrington. Please leave a message after the tone. Bonjour, c’est Harrington. Veuillez laisser votre message après le bip sonore. Здравствуйте, это Харингтон. Говорите, что хотите после звука пипки». Совершив телефонный экскурс, я вновь радуюсь жизни. Заодно гадаю, сколько запросов о том, куда я пропал, надиктованных тревожными женскими голосами, дожидаются меня дома.
В заключение о семейном. После развода жена забрала сыновей и уехала с ними в Калифорнию, где вышла замуж за голливудского продюсера. Бывшая госпожа Харингтон живет с новым мужем и старыми детьми в Беверли-Хиллз. Странный образ жизни, практикуемый членами киношного бомонда, отразился на внешности экс-благоверной. She splurges on plastic surgeons.[118] Каждый раз, когда мы встречаемся в никсонвильском городском суде, — она все пытается выудить у меня алименты, — я замечаю произошедшие в ней перемены. Лобок у нее стал чище, ноги — длиннее, ягодицы — ярче.
Что же касается Роланда VI и Танкреда I, вижу их по уикендам, и то только когда у меня академический отпуск. Последний раз очаровательные отпрыщи гостили у меня за неделю до моей поездки в Москву.
Леди пеликановского салона, вы только послушайте, как мил я был с детишками.
Итак, мой последний день с Ролом и Танком. Вечером я должен был сдать сыновей в аэропорт для отправки в Калифорнию, поэтому мне хотелось особенно содержательно провести с ними оставшиеся часы.
Я повел их в рыбный отдел университетского универсама, где в громадном аквариуме ползают омары. Их клешни обмотаны резинками, дабы злобные членистоногие не сворачивали друг другу раковые шейки, не перегрызали косматых конечностей.
Стоя с пацанами перед толстым стеклом, принялся их (м)учить.
— Совершивший дурные деяния человек или человечек — я многозначительно посмотрел на детей — после смерти преображается в какое-нибудь чудище. В какое именно, зависит. Слушайте же урок этики, основанный на законе переселения душ. Будьте сначала хорошими мальчиками, потом хорошими взрослыми, потом хорошими стариками. Не впадайте в политический экстремизм, не становитесь профессиональными преступниками. Иначе в следующей жизни вы будете морскими пауками в аквариуме ожидания супермаркета смерти, и судьба ваша будет — кипящая кастрюля!
Сыновья побледнели, позеленели и прямо на моих глазах стали более нравственными.
Вновь я посетил…
A. C. Пушкин
Только что вернулся из своей подмосковной. Голова жужжит от впечатлений! Ведь я еще в годы мятежной молодости задумал поклониться семейному пепелищу. Это было давным-давно: три генсека назад.
Но сначала маленькая преамбула.
* * *
В те времена я держал пост в частном колледже, но от работы отлынивал. Говоря парой слов — башмаки бил. Скажу больше-меньше. Совращаясь в порочном кругу битниц и богемщиц, на собственные лекции не являлся. Шмыгал носом без насморка. Нарушал все Божьи заповеди, особенно Седьмую. Жил на моральном дне. Погрязнел в разврате.
Но все равно я не был счастлив.
Однажды глухой ночью после профессорской попойки бессонно лежал у себя в кабинете, цедя из глаз горючие слезы. На сердце было скверно, как у молодожена на свадьбе. Валялся и размышлял. Кто я? Зачем выскочил из теплой матушкиной утробы на белый свет-копеечку? Так начался мой духовный кризис, который разрезал мою жизнь на две половины: распутную и беспутную.
В сей страшный час, когда меня одолевало экзистенциальное отчаяние, внутренний голос по названию «совесть» прошептал мне: «Нанеси визит в бывшее имение предков. Ковыряй родные корни, и ты узнаешь, откуда ты такой-сякой…»
Так в темном царстве моего id’a[119] засиял луч света.
Я затрепетал на казенном линолеуме, как лебедь, и обещал себе: рано или поздно выполню мистический наказ. На ногах или на коленях доберусь до фамильного угодья!
Увы, с американским паспортом я был не ездок по Стране Советов. Волчий билет!
Tempi passati…[120] Я влюбился-женился-развелся, делал науку, стал полным профессором. Мое исследование о Малюте Скуратове вышло (много)тысячным тиражом в издательстве Мадисонского университета, сверкая суперобложкой с моим суперпортретом на заднем месте. Это был выстрел в темную ночь. Вся Россия всколыхнулась! Однако возникло осложнение: книга встревожила самого председателя КГБ Андропова. Видимо, в фигуре опричника-неприличника он узнал себя. Последствия оказались страшными. Моя монография была внесена во все запретные списки, за обладание ею смелому читателю грозила каторга. Но свободное слово летать готово! «Голос Америки» и Би-би-си передавали отрывки из книги на сорока шести языках. Имя Роланда Харингтона поплыло по волнам мирового эфира. На дачах в далекой России задумчивые тургеневские девушки в белых платьях склоняли уши к динамикам радио и внимали профессорской прозе, а потом твердили ее наизусть, гуляя по садам средней полосы. «Малюта» стал бестселлером «самиздата», хотя диссиденты не платили мне ни копейки гонораров.
Редко-часто случается, что скромный научный трактат пугает (анти)народную власть, но в этот раз получилось именно так. Мой «Малюта» принес мне звание полного профессора. Я прославился на всю славистику!
Пораженный Андропов решил меня скоррумпировать. Несуществующие издательства предлагали мне небывалые гонорары, в мой университет подсылали кокоток и гомосексотов, которые ласкались ко мне круглые сутки под видом влюбленных студентов по обмену. Но я был тверд!
Уязвленный Андропов приказал установить за мной страшную слежку. Среди иллинойских прерий я спиной чувствовал тяжелый взгляд Большого Брата. Никсонвиль наводнился незнакомцами в шляпах à la truand[121] и костюмах à la GUM.[122] Незнакомцы говорили по-английски с тяжелым тоталитарным акцентом и без артиклей. Они ходили за мной по пятам, подслушивали мои разговоры и ругательства, прокрадывались во двор, где рылись в мусорном ящике. С космодрома в Плисецке был запущен спутник «Космос-12345», который повис в геоцентрической орбите над Никсонвилем. С высоты 22 000 км шпионская фотопосудина снимала меня на обычную и инфракрасную пленку, просвечивала мое нутро рентгеновскими лучами. Сам Фим Килби, звезда советской разведки, вылез из отставки и выступил на Лубянке с лекцией «Борьба с врагом № 1», чтобы объяснить андроповцам, как обезвредить вольнолюбивого профессора. Следуя его советам, КГБ заказало десятки неодобрительных рецензий на моего «Малюту», которые путем шантажа и взяток были опубликованы в американских научных журналах.
Но я — опытный конспиратор. Ночью стал носить темные очки, приобрел новые манеризмы, вместо джинсов «Calvin Klein» облачил свои длинные, сильные ноги в «Eddie Bauer». Говоря образно, харизмой заметал следы. А для вящей бдительности развил в себе параною. Шарахался от собственной тени, оглядывался через лево-правое плечо, начал подозревать собственных детей в том, что они микроагенты Кремля.
Результаты были радостные: моя компроматка осталась целкой. Даже суперразведчик Филби ничего не смог поделать и снова ушел в отставку. Я устоял перед искушениями и провокациями.
Зато Андропов изменился в лице и остался без носа, так что теперь народ с трудом узнавал его на экране телевизора. Потрясенные советские власти объявили меня персоной non grata. Они боялись меня больше, чем Рональда Рейгана. В каждом офисе КГБ висел мой фоторобот с надписью: «Особо опасен. Расстреливать без предупреждения!»
Мне пришлось отложить заветное à la recherche de la terre inconnue[123] до восхода над непросвещенным отечеством прекрасной зари свободы.
Я плодотворно вкалывал у себя в университете, получая завидную известность в широких научных кружках. Одна за другой выходили мои статьи и книги и переворачивали представления Запада о России. На академических конференциях незнакомые коллеги исподтишка показывали на меня пальцем.
— Неужели это тот самый Харингтон? — шептали они, мигая от волнения.
— О да! — отвечали знакомые коллеги. — Запомните сей миг: вам повезло увидеть исполина славистики двадцатого века.
Но даже познав сладость славы, я оставался таким же скромником, как и раньше, давая моему превосходству над другими учеными проявляться посредством публикаций и лекций, а не банального бахвальства.